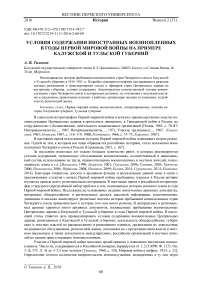Условия содержания иностранных военнопленных в годы Первой мировой войны на примере Калужской и Тульской губерний
Автор: Тихонов А.В.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Комбатанты в истории России
Статья в выпуске: 2 (33), 2016 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается история пребывания военнопленных стран Четверного союза в Калужской и Тульской губерниях в 1914-1921 гг. Подробно освещаются вопросы выстраивания и развития системы размещения и транспортировки солдат и офицеров стран Центральных держав во внутренние губернии, условия содержания. Анализируются количественный состава военнослужащих стран Четверного союза в центральных регионах, их отношения с местными властями и населением, привлечение пленных к работам, организация надзора за пленными, устройство их религиозной жизни.
Первая мировая война, военнопленные, интернированные, военная история, калужская губерния, тульская губерния
Короткий адрес: https://sciup.org/147203731
IDR: 147203731 | УДК: 94(470.312+470.318)"1914-1921" | DOI: 10.17072/2219-3111-2016-2-60-69
Текст научной статьи Условия содержания иностранных военнопленных в годы Первой мировой войны на примере Калужской и Тульской губерний
В советской историографии Первой мировой войны изучалось преимущественно участие военнослужащих Центральных держав в протестных движениях, в Гражданской войне в России, их сотрудничество с большевиками, деятельность национальных организаций [Попов, 1963, с. 76–87; Интернационалисты…, 1967; Интернационалисты…, 1971; Участие трудящихся…, 1967; Клеван-ский , 1965; Копылов , 1967, с. 116–119, 1988; Костюшко , 1966, с. 74–75; Хацкевич , 1967].
В настоящее время исследование истории Первой мировой войны переживает второе рождение. Одной из тем, к которым все чаще обращаются российские историки, стало положения военнопленных Четверного союза в России [Суржикова, 2013, с. 167].
За последние несколько лет издано большое количество работ, в которых анализируются условия содержания, медицинское обслуживание военнопленных, количественный и национальный состав, использование их труда, взаимоотношения военнопленных и местных жителей, повседневность плена и т.д. [ Васильева , 1999; Безруков , 2001; Гергилева , 2006; Талапин , 2005; Крючков , 2006; Иконникова , 2004; Идрисова , 2008; Ниманов , 2009; Белова , 2014; Суржикова , 2014; Калякина , 2014]. Благодаря открытому доступу к архивным фондам и актуализации данной темы в связи с празднованием столетия с начала Первой мировой войны пребывание пленных в России активно изучается прежде всего, региональными историками. В настоящее время в российской историографии утвердился определённый набор проблем и тем, посвященных истории военного плена в годы Первой мировой войны. Исследователи, основываясь на ранее неизученных архивных документах, материалах общероссийских и региональных средств массовый информации, воспоминаниях, дневниках и письмах анализируют различные аспекты истории пребывания военнопленных стран Четверного союза применительно к истории того или иного региона. В центральных и региональных архивах хранится много архивных документов, посвященных пребыванию военнопленных Центральных держав в Калужской и Тульской губерниях в годы Первой мировой войны. В настоящей статье ставится цель проанализировать условия содержания военнопленных Центральных держав, размещенных в Калужской и Тульской губерниях, деятельность общероссийских, губернских и местных властей по распределению и размещению пленных, организации их довольствия, медицинского обслуживания, религиозной жизни, отношения их с представителями власти и местным населением, а также деятельность международных, российских организаций и местных жителей по защите прав и оказанию помощи пленным.
Участие в Первой мировой войне массовых армий привело к появлению миллионов военнопленных. Число их, содержавшихся в Российской империи, варьируется от 1, 2 (ГАРФ. Ф. 3333. Оп. 3. Д. 575. Л. 4) до 3–3,5 млн человек [ Урланис , 1960, с. 326; Мировая война в цифрах, 1924, с. 22]. Определение точного количества неприятельских военнослужащих, водворенных в ту или иную
губернию, представляет проблему, так как вопросами содержания пленных и надзора за ними занимались сразу несколько гражданских и военных ведомств, которые предъявляли свои требования к учету военнопленных стран Четверного союза. Основываясь на архивных документах, можно утверждать, что в Тульской губернии было размещено за время войны около 18 тыс. их (ГАТО. Ф. 90. Оп. 1. Т. 46. Д. 40094. Л. 6), в Калужской – около 6,5 тыс. (ГАКО. Ф. 783. Оп. 1. Д. 1185. Л. 109; Ф. 32. Оп. 11. Д. 95. Л.137–146).
Военнопленные, попавшие на территорию Российской империи в результате боевых действий, направлялись в крупные населенные пункты, где создавались сборные лагеря и пункты для дальнейшей их транспортировки. Важнейшими из последний стали город Киев и село Дарница. Кроме Москвы распределительные пункты были организованы в Орле, Курске и Харькове (РГВИА. Ф. 1606. Оп. 2. Д. 1064. Л. 1). Однако из-за большого количества пленных и сложности транспортировки их часто направляли к месту назначения, минуя более мелкие сборные пункты. По мнению представителей международного Красного Креста, перемещение военнопленных с фронта в лагеря является наиболее тяжелым испытанием [ Васильева , 1999, c. 90].
Военнопленные и интернированных турки в 1914–1915 гг. направлялись в Калугу из южных регионов империи, а в 1916 г. пленные австро-венгерской и германской армии – непосредственно из сборного пункта в Дарнице в уезды (ГАКО. Ф. 783. Оп. 1. Д. 1245. Л. 14).
В Тульской губернии порядок размещения неприятельских подданных зависел от того, из какого сборного пункта или губернии они поступали. Пленные пересылались в Тульскую губернию сначала из распределительного пункта Дарница, Орловского распределительного пункта, а позже из Казанского военного округа. Местные власти старались не оставлять пленных в большом количестве в Туле. Это было связано с тем, что в Туле и уездах находилось большое количество военных заводов, которые обеспечивали армию оружием, боеприпасами и местные власти боялись актов диверсии и шпионажа, особенно их беспокоили немцы и австрийцы.
В Калужской губернии с ноября 1914 г. (ГАКО. Ф. 783 Оп. 1. Д. 1185. Л. 22–24) по сентябрь 1915 г. (ГАКО. Ф. 783. Оп. 1. Д. 1090. Л. 170) былb размещены 2724 интернированных и военнопленных турка (ГАКО. Ф. 783. Оп. 1. Д. 1185. Л. 109). В сентябре 1915 г. весь контингент неприятельских военнослужащих был направлен в Уральскую область. Однако уже с января 1916 г. (ГАКО. Ф. 1337. Оп.1. Д. 89. Л.18) в губернии стали размещать пленных солдат и офицеров из Австро-Венгрии и Германии. Согласно архивным данным по состоянию на 15 февраля 1917 г. в Калужской губернии находилось 3495 пленных (ГАКО. Ф. 32. Оп. 11. Д. 95. Л. 137–146). Первые военнопленные прибыли в Калугу 2 ноября 1914 г., их было 558 человек (ГАКО. Ф. 783. Оп. 1. Д. 1185. Л. 22–24).
Первые упоминания о солдатах и офицерах Четверного союза в Тульской губернии встречаются в местной прессе. Так, газета «Тульская молва» за 4 сентября 1914 г. сообщает о прибытии в Тулу 197 пленных, которых направили на излечение в местный госпиталь (Прибытие пленных австрийцев, 1914, 4 сентября, с. 2). Начиная с мая 1915 г. (ГАТО. Ф. 90. Оп. 1. Т. 46. Д. 39855. С. 2) и в течение всей войны их количество постоянно росло, и к осени 1916 г. в Тульской губернии находилось 18140 пленных (ГАТО. Ф. 90. Оп. 1. Т. 46. Д. 40094. Л.6).
Появление военнослужащих Четверного союза было достаточно заметным событием для губернского центра. Так, в газете «Калужский курьер» описывается прибытие партии военнопленных 14 октября 1914 г.: «В воскресенье, в 12 часов дня в Калугу прибыла первая партия военнопленных австрийцев и германцев… всего прибыло около 300 человек… С полудня у ворот госпиталя собралась большая толпа народа. Больше учащиеся. Но много и женщин…» (Алексеева-Черноцкий, 1914, 14 октября, с. 2–3).
В Тульской и Калужской губерниях всеми общими вопросами, связанными с судьбой военнопленных, занимались губернаторы (ГАКО. Ф. 32. Оп. 2. Д. 1809. Л. 176; ГАТО. Ф.90. Оп. 1. Т.46. Д. 40078. Л. 108). Более частные вопросы решали калужский и тульский полицмейстеры (ГАКО. Ф.783. Оп.1. Д. 1245. Л.78), председатели и управляющие земских управ (ГАКО. Ф. 32. Оп. 11. Д.93. Л.10, 16, 17, 21, 22, 25, 27; ГАТО. Ф. 90. Оп.1. Т. 46. Д 40094. Л. 1), а также уездные исправники, отвечавшие за порядок в среде пленных (ГАТО. Ф. 90. Оп.1. Т. 46. Д. 39861. Л. 3–9).
В целом регионы не были готовы к размещению большого количества пленных иностранцев, помещений не хватало, многие из них не были приспособлены для жилья, поэтому в них производился ремонт. Например, дом Грибченкова был отремонтирован для размещения 60 человек, в доме Горбунова была открыта больница для незаразных больных с баней и дезинфекционной камерой на 130 человек (ГАКО. Ф. 783. Оп. 1. Д. 1185. Л. 38). В наиболее сложных условиях оказались пленные турки, размещенные в вагонах-теплушках. Судя по воспоминаниям пленных, в теплушках располагались два ряда деревянных нар, в середине стояла железная печка. Несмотря на отопление и небольшие помещения, температура была чрезвычайно низкой и даже раскаленная печь не давала должного тепла. Содержание бывших солдат и офицеров Османской империи в вагонах-теплушках было общероссийской практикой. Плохое отопление, халатность местных властей, проживание большого количества человек в маленьких помещениях приводили к трагическим случаям. Например, в течение зимы 1915 г. только 200 из 800 пленных, перевозимых в лагеря Приамурья и Сибири, достигли места назначения, остальные умерли от холода и удушья. Во многих вагонах-теплушках во время транспортировки пленных двери были закрыты, а окна заколочены, что тоже оказывалось причиной трагедий. Зимой 1915 г. два вагона с пленными, пришедшие в Самару, были оставлены на боковых путях, так как местные власти посчитали, что в вагонах находится продовольствие. Несколько дней спустя, когда теплушки открыли, обнаружили, что в них находится 68 турецких пленных, из которых только 8 были живы [Yucel Yanikdag, 1999, р. 71]. Однако в Калужской губернии подобных ситуаций не отмечалось. Пленные в вагонах содержались до апреля 1915 г., после чего их перевели в казармы (ГАКО. Ф. 783. Оп. 1. Д. 1185. Л. 299).
Часто губернские и местные власти проводили инспекции в местах размещения неприятельских военнослужащих и следили за тем, чтобы условия содержания соответствовали требованиям Положения о военнопленных. Чиновники достаточно быстро реагировали на нарушения. В своем рапорте о посещении бараков при деревне Савенка, где содержались военнопленные, пристав первого Богородицкого стана сообщает о ненадлежащих условиях размещения пленных. Для них было выстроено три деревянных барака возле шахты, где они работали. Все бараки, по мнению пристава, содержались крайне грязно. Узнав о нарушениях, связанных с содержанием пленных, тульский губернатор поручил правлению шахты в семидневный срок навести порядок, в противном случае он обещал снять их с работ (ГАТО. Ф. 90. Оп. 1. Т. 46. Д. 40085. Л. 204).
Информацию о подобном содержании солдат и офицеров Четверного союза можно найти в рапорте председателя Крапивенской земской уездной управы, который сообщает тульскому губернатору о снятии военнопленных с работ в Царевской экономии князя А.С. Гагарина. После проверки выяснилось, что они живут в крайне плохих условиях, в частности, военнопленные носили порванную обувь, а один из них вообще не имел её. Кроме того, пользуясь трудом военнопленных, полтора года хозяева экономии не выплачивали деньги Крапивенскому земству (ГАТО Ф. 90. Оп. 1. Т. 46. Д. 40088. Л. 1).
Однако не всегда плохие условия содержания были связаны с нарушением Положения о военнопленных управляющими и хозяевами имений и предприятий. Судя по документам, интернированные и пленные турки в Калужской губернии в 1914–1915 гг. достаточно плохо следили за чистотой своего помещения. Так, после посещения казарм Печенкина и Кувшинникова и дома княжны Вяземской, где содержались турки, калужский полицмейстер остался недоволен санитарным состоянием помещений: в комнатах было грязно, на полу и нарах валялись отбросы. После визита полицмейстера все недостатки были устранены (ГАКО. Ф.783. Оп. 1. Д. 1089. Л.384, 386).
Российские власти занимались обеспечением кормового и вещевого довольствия военнопленных нижних чинов. Согласно «Ведомостям приварочных окладов на военное время для военнопленных по пунктам Московского военного округа» для пленных Калужской и Тульской губерний были установлены определенные денежные нормы обеспечения едой. В Калужской губернии размер кормового довольствия составлял от 6,6 до 8,3 копеек на человека, в Тульской – от 6,5 до 9 копеек. Обычно оно равнялось половине кормового довольствия нижних чинов российской армии
(РГВИА. Ф. 1606. Оп. 2. Д. 1061. Л. 51–52). Судя по архивным документам, военнопленным нижних чинов был установлен суточный продовольственный провиант, который включал в себя 2,5 фунта хлеба, 24 золотника крупы, приварочного довольствия, четверть фунта мяса баранины, свинины или рыбы, 60 золотников свежих или 4 золотника сушеных овощей, 5 золотников масла или сала, шестую часть золотника перца, половину золотника чая. Два раза в неделю выдавались яйца (РГВИА. Ф. 1606. Оп. 2. Д. 1063. Л. 50). В Калуге рекомендовалось отпускать неприятельским военнослужащим довольствие в размере арестантского пайка: два сорта мяса по 24 золотника, 29 золотников постного масла, 28 золотников вермишели, 104 золотника картофеля, 8 золотников лука, 48 золотников сои, 96 золотников ячменя, 56 золотников пшена, 80 золотников капусты, 5 золотников овсяной крупы, 9 золотников муки, 64 золотника гороха. Стоит отметить, что если в начале войны этого хватало, чтобы обеспечить более или менее достойное питание пленных, то по мере ухудшения экономической ситуации в стране и роста инфляции сокращался и объем пайка пленных. По свидетельствам самих военнослужащих, вначале питание было вполне терпимым и сносным, единственное неудобство составляло употребление непривычных для европейцев блюд: каш, похлебок, черного хлеба. Однако уже с 1915 г. проверяющими отмечается недостаточность и неудовлетворительность питания пленных, что объясняется сокращением размеров их провиантского довольствия [ Васильева , 1999, с. 94]. Частично данный вопрос решался благодаря распределению неприятельских военнослужащих для работы на промышленные предприятия и в сельскохозяйственную отрасль, которые были обязаны обеспечивать пленных продуктами и вещами за свой счет. Вместе с тем питание пленных не должно было быть лучше питания русских рабочих в том же хозяйстве. Многие солдаты и офицеры Четверного союза предпочитали наниматься на работы к крестьянам, так как могли получить гораздо более сносное питание, чем то, которое полагалось по уставу.
Солдаты, унтер-офицеры и офицеры имели право носить военную форму и знаки отличия (РГВИА. Ф. 1606. Оп. 2. Д. 1063. Л. 55). Однако со временем форма приходила в негодность, и власти или работодатели должны были обеспечивать пленных одеждой и обувью. Данная проблема осложнялась еще тем, что нижние чины прибывали в места расквартирования в плохо сохранившейся верхней одежде, нередко без белья и в плохой обуви. У многих шинели и сапоги были отняты в момент пленения и при переезде в лагерь [ Васильева , 1999, с. 94].
Согласно приказу командующего Московским военным округом военно-окружное начальство имело право в случае необходимости снабжать воинов противника вещами произвольного образца из числа имеющихся на местном рынке (РГВИА. Ф. 1606. Оп. 2. Д. 1061. Л. 1). Для вещей, которые военнопленные получали взамен изношенного обмундирования, был установлен потолок цен. Так, теплые вещи, выданные взамен шинели, должны были стоить не дороже 5 рублей 50 копеек, одежда, получаемая взамен походной рубахи, – не более 3 рублей 90 копеек, шаровары – не более 2 рублей 40 копеек. Однако казенных вещей для обеспечения ими пленных постоянно не хватало, поэтому было принято решение выдавать бывшие вещи ратников, которые те сдавали при получении формы (РГВИА. Ф. 1606. Оп. 2. Д. 1061. Л. 5).
Тем не менее снабжение пленных одеждой представляло собой большую проблему для местных властей, поэтому часть бывших солдат и офицеров Центральных держав не могли получить новой одежды. Калужский полицмейстер весной 1915 г. в своем рапорте пишет: «За последнее время часто случаются мелкие кражи, эти совершаются турками, которые благодаря наступившему теплу, имеют возможность ходить по городу… Зимою в виду плохой обуви и одежды они сидели по казармам» (ГАКО. Ф.783. Оп.1. Д. 1089. Л.274). Сделать вывод о наличии проблем с обеспечением пленных обмундированием можно на основе объявлений о побегах пленных. Например, в объявлении о розыске пленных Готлиба Свободы и Яна Бедриха содержится следующее описание: «…Свобода… одет в австрийскую шинель, несколько подрезанную, на голове картуз кепкой, темно-синие брюки, на ногах ботинки австрийского военного образца …Бедрих одет в старый рваный пиджак, темно-синий, на голове барановая желтоватая шапка, брюки защитного цвета, на ногах ботинки австрийского военного образца» (ГАТО. Ф. 90. Оп.6. Д. 803. Л.153).
Однако местные власти не сидели сложа руки и пытались разрешить данную проблему. Например, в Калуге была проведена целая «спецоперация», для того чтобы одеть и вымыть пленных турок, а также продезинфицировать помещения, где они были размещены. Совместными усилиями города, земства, администрации, полиции и врачей были организованы сжигание хлама- тряпья, дезинфекция носильных вещей, снабжение чистым бельем в две смены, пиджаками, брюками, фуражками и лаптями. По свидетельствам очевидцев, меры были приняты основательные, и турки были вымыты, их одежда очищена и заменена свежей, помещения продезинфицированы, а опасность передачи заразы устранена. Как сообщалось в одном из номеров «Калужского курьера», для подобной процедуры городом были арендованы на 10 дней за 1 тыс. руб. бани Александрова, затрачено на одежду 12 тыс. рублей (Военнопленные турки, 1915, 10 января, с. 3).
Условия содержания пленных зависели от их звания и национальной принадлежности. В германской и австро-венгерской армиях служили представители славянских народов: чехи, поляки, словаки, а также представители национальных меньшинств, чья историческая родина воевала на стороне Антанты, например, итальянцы и румыны. В Российской империи для военнопленных славян был предусмотрен ряд послаблений и привилегий, и размещались они отдельно от немцев и мадьяр (ГАКО. Ф. 783. Оп. 1. Д. 1245. Л. 179). В Калужской губернии пленные славяне проживали и выполняли работы отдельно от немцев и венгров, кроме того, им предоставлялись льготы в виде прогулки по воскресным дням, общения с соотечественниками (ГАКО. Ф. 783. Оп. 1. Д. 1245. Л. 7). В ряде населенных пунктов существовали отделения попечительства над военнопленными славянами. Например, в Тульское отделение входили все председатели уездных земских управ или их заместители. Главной целью таких отделений было налаживание прежде всего культурных связей с пленными славянами (Собрание Тульского отдела..., 1915, 11 апреля, с.3).
Военнопленные имели право свободно посещать церкви и отправлять религиозные культы. Что касается Калужской губернии, то никаких запретительных мер в этом отношении не зафиксировано ни в архивных документах, ни в материалах местной прессы. Религиозные нужды солдаты и офицеры Четверного союза исполняли за свой счет, расходуя от 15 до 20 копеек. Местные же власти платили только в том случае, когда умершего пленного необходимо было похоронить по канонам той веры, к которой он принадлежал. В местах, где не было католических и протестантских церквей, пленные иного исповедания исполняли свои религиозные требы в православных церквях (ГАКО. Ф. 1337. Оп. 1. Д. 87. Л. 17).
Однако случаи нарушения религиозных прав пленных все-таки имели место. Так, капеллан Могилевской римско-католической церкви сообщал Тульскому губернатору о том, что бывшие военнослужащие Центральных держав лишены религиозной помощи. По мнению капеллана, это произошло прежде всего из-за нежелания военного начальства отпускать пленных на богослужения. Кроме того, даже получив пропуск от Штаба Московского военного округа для осуществления таинств и проповедования, пленные не могли воспользоваться им, поскольку местные полицейские власти отказывались оповещать пленных, работающих у частных предпринимателей, о времени и месте богослужения, а для разъездов по губернии у священнослужителя не хватало собственных средств. Капеллан также сообщал, что дело религиозной помощи пленным по-разному поставлено в госпиталях города Тулы. Например, дирекции 38-го, 39-го и 40-го эвакуационных госпиталей постоянно допускали духовных лиц к неприятельским военнослужащим для удовлетворения религиозных нужд, а руководство 41-го, наоборот, чинило препятствия, требуя у солдат и офицеров Четверного союза по 2 рубля за пропуск священнослужителя. В своем письме капеллан отмечал, что было довольно много случаев, когда пленные умирали без напутствия (ГАТО. Ф.90. Оп. 1. Т. 46. Д. 40093. Л.176).
Проблемы, связанные с ограничением религиозных прав военнопленных, существовали не только в Центральной России. Например, на Дальнем Востоке, в Амурской и Приморской областях было мало католических и лютеранских священников. Отклонялись коллективные просьбы о посещении церквей и синагог, взамен их священнослужителей приглашали в места размещения пленных [ Иконникова , 2004, с. 79, 83].
Кроме местных властей бывшему противнику оказывалась помощь иностранными миссиями и общественными организациями. До февраля 1917 г. интересы всех германских и австрийских подданных защищали Соединенные Штаты Америки (ГАКО. Ф.32. Оп.11. Д. 93. Л. 41). Однако со временем это было признано незаконным, и для распределения пособий и предоставления отчетов назначались специальные чиновники. В Тульской губернии такой работой занимался младший чиновник по особым поручениям Александр Борисович Обухов (ГАТО. Ф.90. Оп. 6. Д. 666. Л. 1,4). А вот калужские власти продолжали работать только с американскими дипломатами (ГАКО. Ф. 783. Оп. 1. Д. 1173. Л. 5).
Помощь больным и раненым военнослужащим Центральных держав оказывали как международные организации, так и местные жители. Например, по инициативе председательницы Калужского дамского комитета Натальи Эрнестовны Толстой 250 больным и раненым пленным в 36-м эвакуационном госпитале и 370 пленным в 37-м госпитале были розданы подарки на общую сумму 110 рублей 50 копеек. Однако местные власти негативно отнеслись к этой инициативе. Дело в том, что комитет собирал деньги в помощь русским раненым воинам, и, таким образом, по мнению местных властей, расходовал благотворительные средства преступно и не по назначению. Правда, инцидент был быстро исчерпан. Местные власти обязали тех, кто организовал акцию, возместить стоимость подарков. И виновные внесли в кассу городского комитета 110 рублей 50 копеек (ГАКО. Ф. 32. Оп. 2. Д. 1809. Л. 194–196).
Сходные сведения о пребывании военнопленных турок встречаются в Нижнем Новгороде. Условия содержания их в этом городе были плохие. За несколько месяцев от голода и болезней умерли около 200 человек. Турки жаловались своим единоверцам – российским мусульманам: «Мы здесь повымираем». Мусульманская община Нижнего Новгорода по мере сил оказывала им поддержку, но остановить массовую гибель людей была не в состоянии. В частности, нижегородские мусульмане предлагали организовать обмен военнопленных с Османской империей, установив контакты с турецкими консульствами в нейтральных странах, или же перевести их в регион с более теплым климатом [Турецкие военнопленные…, 2009].
Если говорить о взаимоотношениях военнопленных и местных жителей, то случаев явной ксенофобии не было. Тем не менее жители Калужской и Тульской губерний относились к пленным по-разному. В архивных документах отражены случаи, когда калужане жалели их и старались помочь. Так, один из жителей Калуги в своей статье в «Калужском курьере» был искренне возмущен условиями содержания пленных турок и требовал относиться более гуманно к бывшим солдатам неприятеля. Репортер «Калужского курьера» сообщал, что впечатление, которое производят эти турки, крайне удручающее. Когда журналист встретил двух пленных голодных турок и спросил, почему они стоят на улице и мерзнут, они ответили, что им хочется есть и они ищут работу, однако их никто не нанимает, а содержания размером в 13 копеек в день им не хватает. Услышав их разговор, проходивший мимо купец решил помочь и нанял одного турка перетаскивать мешки в погреб в лавке. А сердобольная барыня смущенно сунула другому турку серебряную монету (Молотов, 1914, 20 ноября, с.3).
Однако не все жители позитивно относились к пленным. И виной тому было поведение последних. Один из калужских обывателей написал письмо в газету, в котором выражал свое негодование. Он стал свидетелем того, как пленные турки напугали гимназистку. Кроме того, житель города Калуги сообщал, что его прислуга отказывается ходить по вечерам за газетой, потому что боится турок. При этом, несмотря на недовольство, автор письма замечает, что надо быть с пленными гуманными, чего никто не отрицает, но давать им чуть ли не гражданские права не следует (Калужанин, 1915, 15 января, с.3).
В архивных документах описаны случаи недовольства местных деревенских жителей романтическими отношениями чужаков с представительницами прекрасного пола. Так, один из жителей села Новоселебного Куранинской волости Тульской губернии требовал выслать неприятельских военнослужащих, находящихся на сельских работах, или хотя бы установить за ними более строгий надзор. Как сообщает местный житель, «…стража над ними совсем плохая, стражник …ничем не вооружен и следить за ними боится». Кроме того, автор письма требует, чтобы «…военнопленные не имели права заводить любовь с деревенскими дамами и девушками…мы ведь видим, как они ходят по домам наших крестьян…» Вообще пребывание вдали от семей и работа в крестьянских хозяйствах, оставшихся без мужчин, способствовали сближению солдат и офицеров Центральных держав с русскими женщинами, и подобные случаи довольно часто описываются в воспоминаниях пленных (ГАТО. Ф.90. Оп. 1. Т. 46. Д. 40080. Л. 67).
Одним из показателей условий содержания военнопленных является количество побегов. Вообще проблема побегов пленных иностранцев была одной из актуальных в годы Первой мировой войны. В Калужской и Тульской губерниях вплоть до 1917 г. побеги не носили массового характера. Обычно пленные бежали поодиночке. Вместе с тем есть примеры и массовых побегов, когда в Тульской губернии, например, побег совершили 13 человек (ГАТО. Ф. 90. Оп. 6. Д. 803. Л. 19, 144, 150,153; Ф. 2260. Оп. 1. Д. 157. Л. 39, 44, 62, 64, 69, 75, 202). Пленные бежали с сельскохозяй- ственных работ и работ на частных предприятиях, так как многие хозяева не могли содержать большой штат охраны и у пленных было больше возможностей скрыться, хотя самовольные уходы и побеги имели мало шансов на успех. Во-первых, большинство неприятельских военнослужащих не знало русского языка, во-вторых, их было легко распознать по внешнему виду.
Военнопленные в Калужской губернии содержались до 1919 г. Согласно протоколу губернского съезда представителей уездных пленбежей по состоянию на 8 сентября 1919 г. в губернии находилось 32 пленных: 24 австрийца и 8 германцев. Все они либо служили, либо были заняты на разного рода работах. Остальные 824 пленных «уехали одиночным порядком», а скорее всего просто бежали, и их дальнейшая судьба была неизвестна (ГАКО. Ф.Р-2023. Оп. 1. Д. 1. Л. 175). В дальнейшем регион использовался для временного размещения иностранных пленных, возвращающихся на родину.
Последние данные о пребывании солдат и офицеров Четверного союза в Тульской губернии есть в ведомостях о состоянии и движении вражеских пленных в Тульской губернии за июнь 1921 г., в которых сообщалось, что в регионе находилось 157 пленных, из них 12 германцев и 145 австрийцев (ГАРФ. Ф. Р-3333. Оп. 4. Д. 323. Л. 54). Однако в этот период среди пленных могли находиться как бывшие солдаты противника, направленные в губернии во время войны, так и пленные, временно размещенные в Туле и уездах по пути на родину.
Неготовые принять большое количество пленных местные власти достаточно активно взялись за разрешение данной проблемы: находили и ремонтировали помещения для размещения пленных, следили за их здоровьем и санитарным состоянием помещений, где они содержались, обеспечивали едой и одеждой, следили за религиозной жизнью пленных и т.д. Многие проблемы, с которыми сталкивались как пленные, так и местные власти, имели общероссийский характер – были связаны как с тяготами войны, так и с ухудшением экономической ситуации в стране. Кроме того, положение пленных зависело от действия властей стран Четверного союза. Большое значение имела политика и деятельность властей и общественных организаций, направленная на защиту прав пленных на чужбине. Так, Российская империя и Центральные державы в случае ущемления прав пленных осуществляли взаимные репрессии.
Вместе с тем условия содержания пленных имели прямую зависимость от локальных факторов: климата и действий местных властей. В отличие от Урала, Средней Азии и Дальнего Востока в Центральной России климат был мягче, а близость второй столицы империи, Москвы, стимулировала местные власти более тщательно следить за условиями содержания пленных. Власти Калужской и Тульской губерний старались создать приемлемые условия их жизни, своевременно реагировали на возникающие проблемы, поэтому нарушения правил содержание и прав пленных не носили системного характера. Данный вывод можно сделать, основываясь на двух главных индикаторах – количестве побегов и смертей среди пленных. Число их было не очень велико. В документах не встречается и свидетельств притеснения военнопленных и столкновения с местным населением на религиозной и национальной почве. Несмотря на активную пропаганду против Центральных держав, местные жители терпимо относились к пленным и при необходимо старались им помочь. В целом можно утверждать, что условия содержания пленных и их отношения с властями во время Первой мировой войны в Калужской и Тульской губерниях были удовлетворительными. Серьезных нарушений международного права по отношению к неприятельским военнослужащим не зафиксировано, однако уровень и условия жизни военнопленных не всегда находились на должном уровне по целому ряду причин.
Список литературы Условия содержания иностранных военнопленных в годы Первой мировой войны на примере Калужской и Тульской губерний
- Безруков Д.А. Система управления военнопленными и использование их труда в Новгородской губернии 1914-1918 гг.: автореф.... канд. ист. наук. Великий Новгород, 2001
- Белова И.Б. Вынужденные мигранты: беженцы и военнопленные Первой мировой войны в России. 1914-1925 гг. М., 2014
- Бушмаков А.В. Военный плен в российской провинции (1914-1922): Рец. на кн.: Суржикова Н. В. Военный плен в российской провинции (1914-1922 гг.). М., 2014. 423 с.//Quaestio Rossica. 2014. №2
- Васильева С.Н. Военнопленные Германии, Австро-Венгрии и России в годы Первой мировой войны. М., 1999
- Гергилева А.И. Военнопленные Первой мировой войны на территории Сибири: автореф. дис.... канд. ист. наук. Красноярск, 2006
- Гергилева А.И. Многие миллионы людей были вырваны войной из привычной обстановки. Чехословацкий корпус и военнопленные Первой мировой войны//Военно-исторический журнал. 2013. № 2
- Головин Н.Н. Военные усилия России в мировой войне. Париж, 1939. Т.1
- Идрисова Э.С. Иностранные военнопленные Первой мировой войны на Южном Урале в 1914-1922 гг.: автореф. дис.. канд. ист. наук. Орненбург, 2008
- Иконникова Т.Я. Военнопленные Первой мировой войны на Дальнем Востоке России (1914-1918 гг.). Хабаровск, 2004
- Интернационалисты. Трудящиеся зарубежных стран -участники борьбы за власть советов. М., 1967
- Интернационалисты. Трудящиеся зарубежных стран -участники борьбы за власть советов на юге и востоке республики. М., 1971
- Калякина А. В. Под охраной русского великодушия. Военнопленные Первой мировой войны в Саратовском Поволжье (1914-1922). М., 2014
- Клеванский А.Х. Чехословацкие интернационалисты и проданный корпус. Чехословацкие политические организации и воинские формирования в России 1914-1921 гг. М., 1965
- Копылов В.Р. Октябрь в Москве и зарубежные интернационалисты. М., 1988
- Копылов В.Р., Очак И.Д. Югославские интернационалисты в борьбе за победу советской власти в России (1917-1921)//Советское славяноведение. 1967. № 5
- Костюшко И.И., Манусевич А.Я. Польские интернационалисты в борьбе за победу советской власти в России//Советское славяноведение. 1966. №6
- Крючков И.В. Военнопленные Австро-Венгрии, Германии и Османской империи на территории Ставропольской губернии в годы Первой мировой войны. Ставрополь, 2006
- Мировая война в цифрах. М.;Л., 1924
- Нахтигаль Р. Дарницкий лагерь военнопленных во время Первой мировой войны//«Украшський юторичний журнал». 2010. № 2. URL: http://ah.milua.org/darnitza-pow-camp-ww1 (дата обращения: 31.01.2015)
- Ниманов Б.И. Особенности и основные факторы содержания и хозяйственной деятельности военнопленных в 1914-1917 гг.: автореф. дис.. канд. ист. наук. М., 2009
- Попов Н.А. Революционные выступления военнопленных в России в годы Первой мировой войны//Вопросы истории. 1963. № 2
- Турецкие военнопленные в Нижнем Новгороде во время 1 -й мировой войны//Ислам на Нижего-родчине: энцикл. словарь. 2009. URL: http://www.idmedina.ru/books/encyclopedia/?813 (дата обращения: 09.08.2009)
- Суржикова Н.В. Российский плен 1914-1922 гг. в новейшей отечественной историографии: контексты, конструкции, стереотипы//Вестник Пермского университета. Сер.: История. 2013. №2 (22)
- Суржикова Н.В. Реалии плена 1914-1917 гг. в контексте трансформации власти и общества (на материалах Уральского региона)//Историко-педагогические чтения. 2007. № 11
- Суржикова Н.В. Военнопленные Первой мировой войны на Урале. К реконструкции коллективного портрета//Вестник Пермского университета. Сер.: История. 2011. № 3 (17)
- Суржикова Н.В. Военный плен в российской провинции (1914-1922 гг.). М., 2014
- Талапин А.Н. Военнопленные Первой мировой войны на территории Западной Сибири (июль 1914 -май 1918 гг.): автореф. дис..канд. ист. наук. Омск, 2005
- Урланис Б.Ц. Войны и народонаселение Европы. М., 1960. Участие трудящихся зарубежных стран в Октябрьской революции. М., 1967
- Хацкевич А.Ф. Польские интернационалисты в борьбе за власть советов в Белоруссии. Минск, 1967
- Yanikdag Y. Ottoman Prisoners of War in Russia, 1914-22//Journal of Contemporary History. 1999. 34. P. 69-85