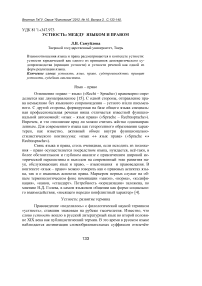Устность: между языком и правом
Автор: Cамуйлова Лидия Владимировна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Вопросы теории и практики исследований
Статья в выпуске: 2, 2012 года.
Бесплатный доступ
Взаимоотношения языка и права рассматриваются в контексте устности: устности юридической как одного из принципов демократического судопроизводства (принцип устности) и устности речевой как одной из форм реализации языка.
Устность, язык, право, судопроизводство, принцип устности, судебная лингвистика
Короткий адрес: https://sciup.org/146120957
IDR: 146120957 | УДК: 81'1+347.973
Текст научной статьи Устность: между языком и правом
Язык – право
Отношение «право – язык» («Recht – Sprache») правомерно определяется как двунаправленное [15]. С одной стороны, отправление права немыслимо без языкового сопровождения – устного и/или письменного. С другой стороны, формируемая на базе общего языка специальная профессиональная речевая ниша отличается известной функциональной автономией: «язык – язык права» («Sprache – Rechtssprache»). Впрочем, и это отношение вряд ли можно считать жёстко однонаправленным. Для современного языка как гетерогенного образования характерен, как известно, активный обмен внутри функциональностилистического континуума: «язык ↔ язык права» («Sprache ↔ Rechtssprache»).
Связь языка и права, столь очевидная, если исходить из положения – право осуществляется посредством языка, нуждается, всё-таки, в более обстоятельном и глубоком анализе с привлечением широкой исторической перспективы и выходом на современный этап развития наук, обслуживающих язык и право, – языкознания и правоведения. В контексте «язык – право» можно говорить как о правовых аспектах языка, так и о языковых аспектах права. Маркером первых служат на общем терминологическом фоне номинации «закон», «норма», «кодификация», «канон, «стандарт». Потребность «юридизации» заложена, по мнению Н.Д. Голева, в самом языковом общении как форме социального взаимодействия, «носящего нередко конфликтный характер» [4].
Устность: развитие термина
Правоведение «поделилось» с филологической наукой термином «устность», ставшим знаковым на рубеже тысячелетия. Известно, что слово устность вошло в русский литературный язык во второй половине XIX века как публицистический термин. В это время в русском языке наблюдается активизация словообразовательных суффиксов отвлечён- ного характера -ство, -ние, -ость и других. С их помощью формируется корпус абстрактной лексики, частично вошедшей в русский литературный язык. Чрезвычайно продуктивными оказались модели с суффиксом -ость. Новые номинативные единицы возникали как на базе русских слов – детскость, азбучность, безнаказанность, косность, впечатлительность, так и присоединением к иностранным основам – субъективность, тривиальность, виртуозность, гениальность. Широкое распространение получают кальки, в том числе при переводе с немецкого: Ganzheit – целостность, Folgerichtigkeit – последовательность, Anschaulichkeit – наглядность и др. [5, с. 240]. В этот ряд, как представляется, вполне вписывается и обозначение устность (нем. Mündlichkeit). Иностранное (немецкое) влияние, а также связь с терминологическим фондом права становятся очевидными, если принять во внимание три момента.
Во-первых, факт появления в Германии в 1821 году работы А. Фейербаха (Paul Johann Anselm Feuerbach [1775–1833]) «Betrachtungen über die Öffentlichkeit und Mündlichkeit der Gerechtigkeitspflege» (выделение подчёркиванием и сохранение орфографии оригинала здесь и далее наше – Л.С.)
Во-вторых, освоение слова Mündlichkeit художественной немецкой литературой Х1Х века. Литературный пример:
ULTRA Ich verkünde für Krähwinkel Rede-, Preß- und sonstige Freiheit, Gleichgültigkeit aller Stände, offene Mündlichkeit , freie Wahlen <…>. (J. Nest-roy. Freiheit in Krähwinkel).
В-третьих, словарные дефиниции и переводы слова Mündlichkeit на русский язык. Так, в Энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона [9] читаем:
«Устность процесса – выражается в том, что все доказательства, допускающие по природе своей словесную форму, представляются суду именно в этой форме, причём объяснения между судом и сторонами в судебном заседании происходят устно».
В немецко-русском словаре И.Я Павловского находим следующий перевод слова Mündlichkeit : публичность, устность [8, с. 935].
Расцвет русского судебного красноречия приходится, как известно, на вторую половину XIX века. Очевидна его связь с судебной реформой 1864 года, которая узаконила гласность, публичность, состязательность обвинения и защиты, т.е., по сути, устность судебной процедуры. Ср. принятую формулу: «Слушается дело …». Ср.: «Der Fall wird verhandelt» / «steht zur Verhandlung ... »). Интересно, что «ни в одном немецком учебнике по гражданскому процессуальному праву или комментарии к гражданскому процессуальному кодексу» нет «ни одного определения или объяснения того, что на самом деле должен оз- начать термин „Verhandlung“» [3]. Заметим, что и в специальном юридическом словаре нет отдельной статьи с ключевым словом «Verhandlung» [19]. Оно встречается с уточнением медиальной формы судебного разбирательства (устная):
Mündliche Verhandlung ist die Verhandlung, die vor dem Gericht bei An-wesenheit der Beteiligten durch mündlichen Vortrag (wenn auch auf Grund vor-bereitender Schriftsätze) durchgeführt wird [цит. раб., с. 840].
Иная процедурная форма описывается с помощью номинации Verfahren (производство по делу): «schriftliches Verfahren» [цит. раб., с. 1081]. В переводах на русский язык ощущается апелляция к устности: Verhandlung: юр. слушание (разбор) дела (в суде); eine Verhandlung anberaumen: назначать/-значить дело к слушанию ; zur Verhandlung stehen v. Sache: слушаться [16, с. 875]. В том же ключе выдержан перевод глагола verhandeln « вести переговоры , юр. слушать дело, разбирать дело» [10].
«Давление» юридической науки ощущается в толковании современными лексикографическими и энциклопедическими источниками слова «устность». В них устность трактуется узко профессионально, как термин из области правоведения («устность судопроизводства» [2]), характеризующий один из принципов демократического судопроизводства.
Устность и электронное судопроизводство
Поиск в сети Интернет, подтвердив частотность правоведческого толкования обозначения «устность», подсказал некоторые направления описания юридической устности . Так, обращение к речевым основам отдельных правоведческих жанров привело к пониманию устности как жанрообразующего признака (на основе жанра судебной защитительной речи см. [7]), а категоризация в сфере процессуального права позволила выделить парную категорию «устность и письменность» [6]). Наибольший интерес, однако, вызвали публикации, освещающие внедрение в сферу судоустройства новых медийных технологий, расширивших одномерный формальный ряд «устность – письменность» многомерной аудио-визуальностью.
В своем историческом развитии юридическая устность проходит стадии, отражающие языковую динамику в целом, и имеет с языком одного и того же постоянного «партнера» – письменность, в форме юридической письменности. Историческая «игра» юридических устнос-ти и письменности открывается «партией» устного народного права (обычного права). Оно сменяется юридической письменностью, продиктованной римским правовым каноном. Юридическая реорализация (возврат к устности), связанная с демократизацией судопроизводства, оттесняет письменность, фактически снимает правило quod non est in actis, non est in mundo. Однако, парность этой категории процессуального права никогда не нарушалась надолго. Даже во времена бытования самой «жёсткой» юридической письменности в ней фоново присутствовала устность, например, в форме озвучивания документов или в виде рефлексов разговорности исковых заявлений. Обе формы прошли испытание на прочность, выдержали многократное реформирование, а письменность – и изменение способов фиксации (Manu-Skript, Typo-Skript, Compu-Skript [11, с. 62].
На повестке дня стоит требование компьютерной грамотности юристов и внедрения высоких технологий в современное судопроизводство. Обсуждаются возможности и границы использования электронных документов, введения электронного делопроизводства, перевода документов с бумажного на электронный носитель, трансляции видеоконференций, презентации юридических инстанций всех уровней в Интернете («Justitia im Internet», «Justitia goes online!») [12, с. 95]. Интенсификация электронного юридического общения изменяет «расстановку сил» в пользу документотворчества (Aktenprozess statt Mündlichkeit [цит. раб., с. 130]) и аудио-визуализации как альтернативы устной коммуникации в рамках судебного заседания.
Замена культуры живого судебного разбирательства (lebendige Verhandlungskultur) формализованным электронным вызывает понятную обеспокоенность практикующих юристов. В связи с техническими инновациями встаёт вопрос о корректировке понимания юридических устности и письменности и о статусе принципа устности в электронной юридической практике будущего [12; 3; 14]. Высказывая аргументы «за» (устность – способ реализации права гражданина быть услышанным, условие и гарантия принципа публичности, инструмент общественного контроля над правосудием и другие) и «против» его сохранения в судебном разбирательстве, П. Гиллес апеллирует и к чисто языковым причинам отказа от этого принципа. Они кроются в заметной ущербности речевого выражения участников процесса, неспособности самостоятельно чётко излагать свои мысли, логично и ясно аргументировать [3]. Наблюдения юриста во многом совпадают с эмпирическими данными лингвистов, говорящими если не об «упадке», то о явном «обнищании» языка его носителей. Хотелось бы, чтобы не было повода обвинять самих юристов в косноязычии и нарушении норм языкового стандарта, чтобы ориентиром для них служили лучшие образцы судебного красноречия, которым отличались их предшественники; чтобы их речь «всегда была полна движения и жизни», чтобы «ею можно было любоваться как произведением искусства» – и вместе с тем её можно было бы «изучать как образец обвинительной (или защитительной – Л.С.) речи» (см.: К.К. Арсеньев о судебных речах А.Ф. Кони [1, с. 380]).
Лингвистика и юриспруденция
Выше речь шла о лингвистике и юриспруденции как о двух автономных научных дисциплинах. История взаимоотношений их объектов – языка и права – продемонстрировала закономерность и устойчивость этих связей. Кроме формально-медиального (устно / письменно / виртуально) сопровождения юридических процедур лингвистика внедрилась в святая святых юриспруденции – криминалистику и законотворчество – с собственными аналитическими методами (психолингвистическими, герменевтическими, стило- и фонометрическими). Новая отрасль знания, известная под названием forensic linguistics, имеет в англоамериканском языковом регионе давнюю научно-исследовательскую и прикладную традицию. Немецкая forensische Linguistik / Rechtslinguistik со сферой интересов: идентификация по голосу, определение авторства текста, речевое сопровождение судебного заседания, доступность для понимания текстов законов и других юридических документов, проблемы перевода [18] – образно определяется как «интерфейс языка и права» (Schnittstelle zwischen Sprache und Recht [13]). Ср. определение из официального лексикографического источника:
Forensische Linguistik (lat. forensis „zum Markt gehörig“, „gerichtlich“ – Auch: Rechtslinguistik). Umsetzung computergestürzter Text- und Sprachver-gleiche für gerichtsverwertbare Ergebnisse bei der Entschlüsselung von Droh-briefen, erpresserischen Anrufen oder Bekennerschreiben, z.B. nach Attentaten. Dieser „linguistische Fingerabdruck“ als Beweismittel zur Autorenidentifizierung ist in der linguistischen Forschung nicht unumstritten, zumal u.a. das Verhältnis von persönlichem Sprachstil (Idiolekt), gruppenspezifischen Sprachstilen (Sozio-lekt) oder regionalen Varianten (Dialekt) kaum mit der gebotenen Genauigkeit geklärt werden kann [17, c. 219].
Дефиниция отсылает к компьютерной технике с собранной базой данных и специальными программами обработки текстовых и аудиодокументов, отмечая при этом, что в языковедческой среде существует сомнение в возможности использования «лингвистического отпечатка пальцев» (der linguistische Fingerabdruck) в качестве бесспорного доказательства авторства. Библейский сюжет голосовой имитации Иякова, желавшего получить благословение отца, перекликается со сказанным выше (ср.: [18, c. 40, 41]). Слепой Исаак узнает Иакова по голосу, верит, однако, своим тактильным ощущениям (Бытие 27; 22, 23):
«Иаков подошел к Исааку, отцу своему; и он ощупал его, и сказал: голос, голос Иакова; а руки, руки Исаковы. И не узнал его, потому что руки были, как руки Исава, брата его, косматые; и благословил его».
Устная составляющая входит в приёмы идентификации по голосу (традиционная фонетика / Ohrenphonetik, инструментальная фонетика / Instrumentalphonetik), в другие практики судебного разбирательства, в частности, в допрос обвиняемого по делу. Степень устности (разговорности) жанра допроса с целью установления анкетных данных личности (Vernehmung zur Person) можно оценить по цитируемому ниже транскрипту [18, c. 33].
Richter (R) Sie sind bisher aufgefallen wegen Verkehrsgeschichten, Fahren ohne Führerschein, und davon wegen Diebstahls.
Angeklagter (A) Ja. Führerschein hab ich jetzt seit 1972.
R Den ham Sie jetzt?
A Ja, den hab ich. Und jetzt bin ich glücklich verheiratet. Und die Jungs, wo ich früher alles mit gemacht hab, da hab ich jetzt keinen Kontakt mehr mit.
R Wann sind Sie denn entlassen worden?
A Am 12.1., und geheiratet am 28.2., also praktisch sechs Wochen später.
R Ihre Frau kannten Sie damals schon.
A Ja, kannt ich schon.
R Seit dem 12.1. haben Sie immer dieselbe Arbeitsstelle?
A Nein, die hatt ich nich.
R Sondern?
A Das ist jetzt die dritte Arbeitsstelle. Ja, ich hab Angst.
R Also ich verstehe, dass Sie Angst haben, wieder inne Kiste zu kommen.
Российская наука открыла для себя эту новую отрасль знаний не так давно. В отечественном терминологическом обиходе она представлена целым рядом номинаций: «судебная лингвистика», «правовая лингвистика», «юридическая лингвистика», «юрислингвистика». Судебная лингвистика, судя по публикациям, вполне успешно разрабатывает направления, «подсказанные» зарубежными коллегами по юрислингви-стическому цеху, и направляет свои усилия на поиск новых, актуальных для российских правоведческих реалий (см., например, публикации учёных научно-учебной группы «Юрислингвистика и межъязыковые аспекты правовой коммуникации», межвузовские сборники «Юрислин-гвистика» Алтайского государственного университета).