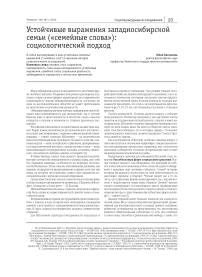Устойчивые выражения западносибирской семьи («семейные слова»): социологический подход
Автор: Беспалова Юлия Михайловна
Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop
Рубрика: Социокультурные исследования
Статья в выпуске: 1, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается роль устойчивых семейных выражений ("семейных слов") в арсенале методов социологических исследований.
Человек, язык, социология, повседневность, типы языка повседневности, устойчивые выражения, семейные слова, социальная реальность, наблюдаемость социальных и личностных феноменов
Короткий адрес: https://sciup.org/142181956
IDR: 142181956
Текст научной статьи Устойчивые выражения западносибирской семьи («семейные слова»): социологический подход
Жанр обращения науки к повседневности в настоящее время особенно актуален. Разрывая узкие рамки одномерных подходов, он ярко демонстрирует характерную для современного гуманитарного знания междисциплинарность, поскольку ни одна из исследовательских областей не может претендовать на монополию в изучении повседневности.
Объединяющей различные научные направления силой обладает язык повседневности, как письменный, так и устный. Именно язык в многозначности и богатстве своих смыслов нуждается в анализе и изучении со стороны различных дисциплин.
Российская повседневность представлена множеством языков. "Царят языки унизительные для человеческого достоинства и резко диссонирующие с нормами цивилизованной коммуникации, — пишет социолог В.Бачинин, — на политических высотах небрежный язык глумливого, босяцкого хамства, в научных верхах — язык заскорузлого сервилизма, прикрывающегося идеологической ветошью, а среди научных низов — язык, напоминающий полузадушенные всхлипы астматика, лишенного способности свободно дышать и говорить" [1].
В общественных науках пока немного прецедентов работ, которые изучали бы повседневность в рамках языка, или хотя бы сохраняли языковые особенности исследуемых источников. Публикуемые статьи, письма, воспоминания, дневники, как правило, подвергаются редактированию и правке, хотя сам тип языка, на котором они написаны, может стать предметом исследовательского изучения и комментирования.
Среди известных мне ученых-социологов исследованиями в области языка повседневности занимались Г.Батыгин, В.Голо-фаст, А.Алексеев, а более всего — Н. Козлова.
Наталья Никитична Козлова, социолог, антрополог и философ была одним из первооткрывателей данной темы в отечественной науке.
Ей принадлежало первенство труднейшей, кропотливой работы с языком, в ходе которой язык, являющийся социальной нормой, сопоставлялся с ненормированной повседневной речью. И здесь данным исследователем делались удивительные открытия1.
Для Н.Козловой структура повседневности находилась в постоянном процессе изменения. Она редкий ученый, который кропотливо исследовал свой предмет в динамике, а не в застывшем статическом состоянии, как делают многие представители отечественной науки. Козлова никогда не упускала возможности проследить, что стало с исследуемыми ею персонажами через 5, 10, 15 лет, как поменялась их жизнь с течением времени.
Особое внимание Н. Козлова уделяла вопросу о субъекте повседневности. В качестве материала у нее выступали тексты людей не всегда высокоинтеллектуальных, а подчас и вовсе малограмотных. Н.Козлову отличало одинаковое внимание и интерес ко всем людям, какое бы место в обществе они не занимали. Она была убеждена, что в истории, наряду с "голосами" людей великих и известных, должны прозвучать "голоса" простых людей из народа.
Как исследователя, Н.Козлову особенно занимал вопрос о связи институтов и отношений макромира с микросоциальны-ми повседневными процессами, например, как соотносятся идеология и обыденное сознание, исторический опыт и опыт индивидуальной человеческой судьбы.
Выдающимся научным достижением Н.Козловой стало открытие бессубъектных форм социальной практики . Изучая "наивное письмо", она обнаружила, что пишущий не субъект, в классическом понимании этого слова. Не удается обнаружить у пишущих черт активных субъектов, "хозяев" истории, которые бы желали и могли взять на себя ответственность за настоящее, прошлое и будущее. "Чтение уводит нас в ту область, где социальные формы замаскированы, где с идентичностью у людей ведутся некие игры. Наивное "ручное" письмо словно подтверждает и иллюстрирует мысль приверженцев постмодернистских методологий о смерти субъекта, об исчезновении автора, о существовании бессубъектных форм культуры", — пишет она [2].
Данное открытие имеет большое значение для социологической науки. Весь социологический инструментарий, применяемый для изучения массового сознания (анкеты, интервью, рейтинги) основывается на представлении, что респонденты являются общественными субъектами, то есть они отвечают за свои слова, способны к рациональному выбору, а также, что их оценочные суждения объективны и имеют связь с поступками. Однако в свете научных выводов, которые сделала Н. Н. Козлова, данное представление выглядит не всегда обоснованным. "Не происходит ли так, что исследователи "вменяют" респондентам качества субъектов, которых на самом деле у тех может и не быть, и которые, на самом деле, являются проекциями жизненной стратегии, принятой в более образованном, привилегированном культурном сообществе", — пишет в статье о Н.Козловой ее коллега А.Захаров [3, с.514].
Приведу ряд высказываний из работ Козловой, которые считаю важными и для данной статьи, и для исследователя, изучающего повседневность в русле языковых процессов:
"Любой человеческий документ представляет ценность как свидетельство" [4, с. 108];
"Каждый человек в сознании своем и языке несет свою личную историю вместе с историей страны" [5, с. 22];
"Исследовательский взгляд — неизменно взгляд сверху. Писание любой истории служит переводом прошлого на язык современности и несет опасность исторического релятивизма. Избежать этого можно лишь историзируя самого себя, т.е. обозначая время и место, из которого говоришь, пытаясь высказаться в качестве участника…" [там же, с.27];
"Особенно важен шаг обращения к собственной биографии, для занимающихся той историей и той культурой, от которых неотделимы сами… поставить себя в один ряд с другими — хороший способ избежать суждения, диктуемого привилегированной позицией: я лучше туземца знаю, кто он такой" [там же];
"Общность культурного поля производителя "документа", несомненно, помогает интерпретации (не дает "соврать", позволяет почувствовать значимость той или иной детали). Но, главное, ты знаешь "по жизни" правила игры, ты чуешь..." [там же, с.28];
"С точки зрения нарративности, бытие в мире уже маркировано языковой практикой, которая задает предпонима-ние, как естественную установку. Люди впутаны в истории. Истории рассказаны… Обладать языком — обладать миром…" [6, с.16].
"Язык и общество дают нам сценарии чувств, сценарии того, как хотеть, думать и говорить… используемый в повседневной жизни язык представляет человеку необходимые объективации и устанавливает порядок, в рамках которого приобретают смысл и значение, как сами эти объективации, так и повседневная жизнь человека" [там же].
"Язык подчиняет индивида своим структурам (схемам классификации), позволяющим различать объекты, он формирует высказывания действия и высказывания существования, разделяет мир на зоны (интимность/ удаленность), через выбор личного местоимения принуждает высказать свое отношение к другому (Я и ты). Отношение (пусть даже самое что ни на есть трудно выразимое — все же находит выражение с помощью социокультурных структур, оформленных лингвистически [там же].
"Знания, убеждения, вера, равно как атрибуты субъективности оказываются конструкциями, производными от формы языка. По словам Л.Витгенштейна, "наши представления организуют опыт мира"… Речь идет не только о вербальном языке, но и грамматике социальных правил" [там же, с.17].
"Владеть языком — быть ему причастным. Можно только участвовать в языке (как, впрочем, и в обществе), практически воспроизводить его, одновременно воспроизводя социальность… Об историческом происхождении, представленных я языке социальных значений, легко забывают. Все это я сводится к разного рода комментированию общеизвестного" [там же, с.18].
"Неразделенность социального и индивидуального схватывается в понятии габитус... Габитус — социальность и история, встроенные в тело и язык человека… Габитус — унаследованный капитал, который обуславливает становую позицию и возможность ставок в тех или иных социальных играх, а также способ, каким делаются эти ставки. Это инкорпорированный принцип игры, искусство изобретения, позволяющее производить бесконечное количество практик, относительно непредсказуемых, но все же ограниченных в своем разнообразии." [там же, с. 25-26].
"Само письмо может быть рассмотрено как проявление социальной симптоматики. Вместо того чтобы "поправлять", мы можем обратиться к анализу малоисследованных социальных игр, которые имеют место в социальных низах… Это — важная задача, ведь до сих пор история обществ и их функционирование были явлены в языке образованных…" [2].
Прежде всего, следует подчеркнуть, что язык возникает в повседневной жизни и впоследствии тесно связан с ней . Язык в наибольшей степени отражает культуру повседневности. В языке изображается вся "картина мира". Он отражает пространственно-временные измерения развертывания человеческой истории, формы протекания жизни, традиционные области и области, где возникают новации, образуются новые миры.
Причем, это проявляется как в вербальной, так и невербальной формах. Вербальная система выступает средством общения, кодом, на котором люди передают друг другу информацию, невербальная включает язык жестов, ритуалов, костюмов, этикета. Австрийский социолог и философ А.Щюц выделял следующие формы повседневности: трудовую деятельность; специфическую уверенность в существовании мира; напряженное отношение к жизни; особое переживание времени; специфику личностной определенности действующего индивида; особые формы социальности [7]. Все данные формы непосредственно выражаются в языке.
Человек понимает повседневную жизнь и разделяет ее с другими посредством языка. Язык соединяет различные зоны повседневности в единое смысловое целое, он выражает переживания людей, а также является хранилищем огромного разнообразия накопленных знаний и жизненного опыта людей, которые посредством языка сохраняются во времени и передаются последующим поколениям. Он поддерживает стабильность функционирования человеческого общества. В языке повседневности создается и воспроизводится весь социальный мир . Любой социальный факт получает отображение в языке.
В повседневной речи в скрытом виде заключены все основания конкретных социальных действий и взаимодействий. Пользуясь языком, любой человек, даже неповторимый в своих проявлениях, пишет по правилам, причем, не только орфографическим или грамматическим, но и в соответствии с господствующими общественными принципами, нормами, ценностями.
Язык дает нам возможности для социального конструирования, т.е. он содержит образцы социальных чувств, сценарии того, чего желать, о чем думать и что говорить.
В языке повседневности представлены социальные связи и отношения, процессы социализации, ценностные иерархии, поведенческие рецепты.
Социальное расслоение людей в обществе также определяется, прежде всего, типом языка, который повседневно использует та или иная социальная группа.
В языке выражаются субъективные смыслы поведения индивидов . Формы повседневных языковых конструкций выступают как способы понимания людьми жизненных событий.
Язык фиксирует обретение человеком себя, через смену языкового репертуара, отхода от прежних речевых практик и овладения новыми практиками. За каждым произнесенным словом выступает не только социальная, но и частная личностная история.
Язык может выходить и далеко за пределы повседневной социальной реальности. Особое значение языка повседневной жизни заключается еще и в том, что он, содержит в себе нечто пока недоступное и неизвестное нам . Язык обладает властью над людьми, императивностью, несет в себе определенные скрытые посылы. Иначе говоря, язык творит жизнь, а не наоборот. Каждое произнесенное слово имеет глубинный смысл.
С помощью языка повседневности передаются древние системы символических представлений. Причем, язык не только сохраняет символы, но и конструирует их и превращает в объективно существующие элементы повседневности. Таким образом, символический язык как универсальный язык, созданный самой природой, становится существенным элементом повседневной жизни.
Нередко слова "используются как знаки, т.е. как ссылка на нечто, что существует независимо от языка", — отмечал немецкий социолог Н.Луман [8, с.141].
Импульсы для глубинного изучения языка повседневности дал французский психоаналитик Ж.Лакан, который утверждал, что бессознательное структурировано как язык , через который оно воздействует на субъекта [9].
Что же должен учитывать ученый, имея дело с повседневным языком, например, читая языковые документы?
Поскольку тексты создаются чтением, интерпретация требует чтения документов под разными углами зрения . Этой работе присуща принципиально междисциплинарная направленность . Различные методологии, осваиваемые в ходе исследования, оказываются тесно взаимосвязанными. Например, социологический подход сочетается с антропологическим, что означает особое внимание к обычаям, ритуалам системам социальных представлений, способам видения и образцам социальных действий. Человек изучается вместе с его жизненным миром, в контексте различных форм бытия.
Социологическая интерпретация текстов предполагает исследование индивидуальных проявлений общественных отношений. На этом уровне происходит обращение к повседневным практикам, зафиксированным в тексте. Анализируя языковые тексты, мы уходим от того, что видится жестким, нормальным, центральным, институционным и единственно грамотным и находим личное, индивидуальное, локальное и нередко неповторимое. В центр нашего внимания попадают темы социальной нестабильности и неопределенности, вариативности, поиска альтернативных социальных решений, маргинальности, переходности, неоднородности, множественности, автономности и уникальности социальных практик.
Круг источников для изучения языка повседневности очень разнообразен. Большую роль здесь играют письменные документы: дневники, переписка, мемуары, художественная литература, публицистика, пословицы, поговорки, анекдоты, разговорники и др., а также живая устная речь носителей языка.
С нашей точки зрения, наиболее важную роль в изучении повседневности с помощью языка играют устойчивые выражения, включающие шутки, поговорки, пословицы, используемые в бытовом разговорном языке российских семей.
Не случайно, в лингвистическом анализе крупнейший исследователь XX века Л. Витгенштейн особое внимание придавал обыденному языку, настаивая на его самостоятельном значении.
В русской традиции особенности бытовых разговорных жанров связывал с повседневностью М. Бахтин. Он писал: "Мы научаемся отливать нашу жизнь в жанровые формы и, слыша чужую речь, мы уже с первых слов угадываем ее жанр…, с самого начала обладаем ощущением речевого целого, которое затем только дифференцируется в процессе речи. Примерно также обстоит дело и с типами повседневных взаимодействий" [10, с. 94].
О необходимости заниматься конкретной речевой деятельностью носителей живого языка и в этом плане важности тщательного исследования "семейные слов" и выражений, писал Д. Лихачев. "Моя бабушка по матери и ее верная Катеринушка, — писал он — любили вставлять в свою речь поговорки и пословицы (и первые и последние всегда как шутку), и эти обычные для всех шутки своею понятностью именно в тесном семейном кругу как бы служили удостоверением прочности семейного быта. О надетой с форсом набекрень дамской шляпке или слишком вольном дамском костюме говорили: "неглиже с отвагой". О франтоватом мужчине, что он держится фертом (ферт — название буквы "Ф", напоминающей избоченившегося человечка) и т. д.
Наша няня Катеринушка, вдова питерского мастерового, любила присказку: "Как у Семянникова на заводе, только трубы пониже и дым пожиже" (в начале нашего века густой дым из труб завода служил как бы рекламой предприятия, свидетельствуя якобы о напряженной его работе). Эту присказку Катеринушка говорила о тех, кто старался показать, что вовсю работает. В разговорах бывало множество острот, которые я называю "устойчивыми" и которые понимались "между своими". Из поговорок в нашей семье особенно частыми были: "Мели Емеля — твоя неделя" (о вранье и пустозвонстве) и "На тебе, Боже, что нам негоже". Обе поговорки "успокаивали", приглашали терпимо относиться к чужому хвастовству и показной доброте.
Много было и "детских" слов, с которыми обращались к детям и говорили о детях…" [11].
Устойчивые семейные выражения, безусловно, — свидетельство крепости семьи. Воплощая в себе коллективную память, семейные выражения становится средством приобщения к семейной традиции и семейной памяти .
Семейные выражения отражают семейные идеалы . По словарному багажу, который человек использует систематически и который чаще всего получает в семье, обычно оценивается степень его культурности.
Семейные выражения фиксируют изменения семейного словаря . Благодаря анализу изменения семейных языковых репертуаров можно исследовать процесс конструирования и изменения идентичности.
В устойчивых семейных выражениях вырабатываются и функционируют сложные стандарты жизнедеятельности. Они охватывают все сферы человеческой жизни: ритуалы, обычаи, религиозные представления, особенности сознания и поведения.
По семейным выражениям можно изучать процессы социализации.
Особенно важно изучение семейных выражений, когда исследуются "бессубъектные" формы социальной действительности.
Семейные слова имеют особую власть над членами семьи . Они, включающие в себя ценности, нормы, поведенческие рецепты, тех или иных социокультурных групп иногда представляются необычными для посторонних наблюдателей. Но эти "странности" могут говорить о важных моментах жизнедеятельности семьи и общества в целом.
Вспоминая библейское выражение "Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог", отмечу, что в древних культурах в словах видели сакральный, глубинный, творящий смысл. Слово могло нарушить гармонию и восстановить ее, принести удачу и неудачу, испортить здоровье и исцелить человека. Все жрецы, святые, великие врачи и целители древности лечили словом. Наоборот, случайно оброненное недоброе, или, как говорили на Руси, "худое" слово, могло отозваться чередой неприятных последствий.
Группа российских биологов в лабораторных условиях выяснила, что молекулы ДНК "воспринимают". Например, молекулы, ответственные за наследственность, под воздействием речи способны менять свою форму и структуру.
Проблема замены повседневной сниженной лексики "добрыми" словами встает при работе с больными наркоманией и людьми, имеющими алкогольную зависимость, которые обычно говорят на сленге или в пьяном виде употребляют мат.
Современные лингвисты выдвигают и обосновывают гипотезу, что алфавиты древних культур выполняли космологическую функцию в моделировании мира. Алфавит является не случайным набором звуков, а моделью мира, принципами устройства Вселенной. Любая буква выступает кодом (на санскрите "буква" означает "нетленный, неизменный"). Буквы, складываемые в определенной последовательности в слова, составляли основу древних молитв и заклинаний.
Устойчивые семейные выражения выступают той "сферой", где собираются и хранятся глубинные ценности традиционного семейного опыта, смыслы древних представлений, связанных с символом, буквой и словом.
Изучение устойчивых семейных выражений — нахождение и исследование тех структур, которые включают внутренние, как правило, неосознаваемые механизмы деятельности людей, сформированные в контексте относительно устойчивых смыслов социальной жизни.
С помощью семейных слов мы можем понять, что позволяет людям сегодня адаптироваться определенным образом к постоянно увеличивающемуся разнообразию смыслов, что помогает им различать эти смыслы и на основании чего они осуществляют свой выбор.
Нельзя упускать из виду многозначность семейных выражений, их разнообразную интонационную окраску, что говорит не только об их творческой природе, но и о многокачест-венности повседневности, не сводимости ее к общим вариантам толкования.
Приведу устойчивые выражения, употребляемые в западносибирских семьях на примере нашей семьи.
Отмечу, что в Западной Сибири существовало значительное разнообразие семейных выражений, что можно объяснить историческими причинами, разнообразием характеров, занятий и профессий сибиряков. История края зафиксировала постоянное обновление сибирского населения. В прошлом в Западную Сибирь постоянно двигался поток переселенцев, жителей самых разных областей России и пограничных с нею территорий. Этот процесс не окончился и до настоящего времени. Постоянное приращение ценностей, в том числе и языковых в виде семейных слов, всегда придавало сибирскому населению бесконечную энергию творчества и созидания.
Язык нашей семьи — это живые образные выражения бабушки, Марии Петровны Беспаловой (1900-1987), правильный и строгий язык "с числом и весом" моего деда, Георгия Дмитриевича Беспалова (1896-1984), литературный язык моей матери, Ларисы Георгиевны Беспаловой 2(1922).
В любом возрасте моя мать всегда поправляла меня, когда я говорила слова неправильно или применяла недопустимые, по ее мнению, жаргонные выражения. Однако в моем языке, несмотря на филологическое образование, смешались живые выражения от бабушки, строгие и правильные от деда и литературные — от матери.
"Плакала Маша как лес вырубали…" (спохватились поздно, время уже ушло), — одно из любимых перефразированных некрасовских выражений моей бабушки.
"Глаза боятся, а руки делают" — часто говорила бабушка о трудной работе.
"Сделано через пень-колоду"; "Шей, да пори, не будет простой поры"; "Криво-косо, на колесах…" — говорила бабушка, когда работа была сделана плохо, работа не спорилась или ее надо было переделывать. "Передельщики" — называла бабушка тех, кто сразу не делал работу хорошо.
Еще ее выражения о работе: "Ждали Покров — а тут Масленка грох" (прособирались что-то сделать); "Начали, почали — поповы дочери"; "Не успел отплыть, а уж и лапти сушить" (о быстром отказе от какого-либо дела или о раннем отдыхе); "Скучен день до вечера, коли делать нечего"; "Спишь до обеда — не пеняй на суседа"; "Чай пить — не дрова рубить".
"Держи голову в холоде, живот — в голоде, а ноги в тепле", — учила нас бабушка.
"Солнце, воздух и вода будут с нами навсегда", — одно из ее "бодрых" выражений.
Об их с дедом бедной свадьбе бабушка говорила так: "В правом кармане — вошь на аркане, а в левом кармане — блоха на цепи"; "Невеста — без места; жених — без штанов"; "Хороша парочка — баран, да ярочка".
"Домового ли хоронят, ведьму ль замуж выдают?" — спрашивала бабушка пушкинским выражением, когда мы, дети, поднимали большой шум.
Бабушка была замечательная кулинарка, учила домашних готовить она с такими словами: "Недосол — на столе, пересол — на спине" (данное выражение из крепостной жизни в Западную Сибирь, где никогда не было крепостного права, завезли переселенцы из центральной России).
"Ни с чем пирог. С тараканами" (о пироге без начинки); "Придут гости — глодать кости"; "Ну и гостья, Черепанова Федосья (с мужем)" (о неприятной гостье); "Много ли вас? Не надо ли нас?" (пришли к кому-то без приглашения); "Чай пить — не дрова рубить".
"Отвяжись худая жизнь (жисть) — привяжись хорошая", — говорила бабушка, когда наступала темная полоса в жизни.
"Верба-хлест, секи до слез, третий раз — на здоровье" — приговаривала бабушка, придя из церкви с освященной вербой, по три раза ударяя ее веточками всех домашних по очереди. Мы знали, что после такого "обряда" сильно болеть в доме в течение года, до следующей вербы, никто не будет.
"На кладбище ветер свищет…", — ударение делалось на втором слоге слова "кладбище".
"Отходила коридором, отсчитала лесенки…"— отмечала бабушка, когда умирал кто-то из соседок. "Отходила коридором, отсчитала лесенки, Марья Петровна…"— были последние слова бабушки о самой себе.
Еще яркие семейные выражения:
"А ну-ка, встань передо мной, как лист перед травой" (сказочное обращение к провинившемуся младшему члену семьи);
"Дают — бери, а бьют — беги, слезно просят — плачь, да не отдавай";
"Зарекался кувшин по воду ходить" (об обещаниях, которые, скорее всего, не будут выполнены).
"Зря туда сходила: поцеловала пробой, да и пошла домой" (в том месте, куда пошла бабушка, никого не было, или было закрыто); "Куда пошла? — На кудыкину гору: мышей ловить, да кошек кормить" (бабушка отвечала таким образом, когда перед самой дорогой ее спрашивали о том, куда она собралась пойти). "Нельзя "кудахтать", пути (дороги) не будет", — говорила она нам;
"И что там тебе попритчилось?" (что-то показалось или что-то случилось со здоровьем);
"Любить не люби, но почаще взглядывай";
"Мы слыхали голоса (голосья), что поднимают волоса (во-лосья)" (о резких голосах, криках или ссоре);
На слова "не могу" бабушка говорила: "Не могу? — Не могу поднять ногу, не ногу, а ногу, все равно не могу";
"Не трещи — прошли водокрещи" ( о морозе);
"Ни сна, ни отдыха измученной душе" (из арии князя Игоря";
"Ну и квас, перевел всех нас, доберется до того, кто и делал его" (о некачественных напитках или продуктах);
"Понапрасну милый ходишь, понапрасну ножки бьешь" (кавалер ходит напрасно к девушке или кто-то из домашних ходил куда-то напрасно).
"Спохватился, да и за щеку" (быстро отказался от своего намерения);
" Старость — не радость, не красные дни";
"Старые люди говорили: "Конец света настанет, когда Китай воевать начнет";
"У него (нее) ноги не нашли пути-дороги" (не зашел в нужное или необходимое место);
"Это еще цветочки, а ягодки впереди",
Не только наша семья, но и другие западносибирские семьи владели живым разговорным языком3.
Приведу наиболее часто употребляемые и в нашей семье, и в других западносибирских семьях выражения4:
О социально-политических отношениях: "Ешь пирог с грибами — держи язык за зубами"; "Лес рубят — щепки летят"; "Мал-мал ошибка давал, вместо "ура", "караул" кричал"; "Новое платье со старыми дырами" (о реформах); "Один горюет, семья воюет"; "Плетью обуха не перешибешь"; "Сидят-сидят, да едут" (о властях); "Сказал бы словечко, да волк недалечко"; "С сильным — не борись; с богатым — не судись"; "Суд прямой, да судья кривой"; "Тебя посадят, и нам не уйти" (о репрессиях); "Ты меня видишь, а я тебя нет" (о том, кто сидит за решеткой); "У кого грудь в крестах, а у кого голова в кустах".
О богатстве и бедности: "Бедному жениться — ночь коротка"; "Бедному одеться — только подпоясаться"; "Богатая тетка — широкая юбка"; "Где тонко — там и рвется"; "Гол, как сокол"; "Денег, как воды в решете"; "Нужда заставит калачики жевать"; "Нюхай, дружок, хлебный душок"; "Одна рука в меду, другая — в патоке" (богато живут); "Остался, в чем мать родила"; "От тюрьмы, да от сумы не открестишься"; "Финансы поют романсы".
О трудовой деятельности: "Акуля, ты шьешь не оттуля! — А я, маменька, еще пороть буду"; "Без труда не вынешь рыбку из пруда"; "Бог труды любит"; "Болею, умираю, ем по караваю" (о симулянте); "Была неделя — куда глядела? Пришла суббота — какая (к дьяволу) работа!"; "Видать Марья пироги лепила — все ворота в тесте"; "Вся работа стоит да едет" (нет времени что-то сделать); "Вши воду видали, а блохам сказали" (работа сделана плохо); "Глаза боятся, а руки делают"; "Гужей не рвет" (работает кое-как); "Дело аховое" (пустое предприятие); "Дела как сажа бела"; "Делает в час по чайной ложке" (о неумехе); "День-деньской работали"; "Ешь — потей; работай — мерзни"; "Занят на погребу с гущей" (о бездельнике); "Как потопаешь, так и полопаешь"; "Куй железо, пока горячо"; "Люблю повеселиться я, особенно пожрать; люблю и поработать — особенно поспать"; "Люди пахать, а он руками махать"; "Мастер Пепко делает крепко — год не пройдет, все отпадет"; "Нанялся, как продался"; "На обухе рожь молотил(а), зерна не уронил(а)" (о ловкости, практичности); "На словах туда-сюда, а на деле никуда"; "Не зачали, не почали"; "Не зная броду, не суйся в воду"; "Дел непочатый угол" (много дел); "Не растворено, не замешано"; "Неумеха — три ореха"; "Не у шубы рукав" (дело не готово); "Не пришей кобыле хвост" (сделано кое-как); "Ни дела, ни работы"; "Осталось начать, да кончить"; "От трудов праведных — не наживешь палат каменных"; "Пень колотить, да день проводить"; "Помощник из чашки ложкой"; "Работа не Алитет — в горы не уйдет"; "Работа — не волк, в лес не убежит"; "Работают шель-шевель"; "Руки и труд все перетрут"; "Руки-крюки"; "Сделал дело — гуляй смело"; "Сидели хохотали — очень устали"; "Скоро, да не споро"; "Союз-но — не грузно; а врозь — хоть брось"; "Схлопотал, да и за щеку" (только начал дело, тут же его и бросил); "Торговали — веселились, посчитали — прослезились"; "Трем собакам щей не разольет" (лентяйка); "Труд кормит, а лень портит"; "Уже курочки на седало садятся" (уже вечер, а дело не сделано); "У него (нее) еще и конь не валялся"; "Ходит — квас разводит" (бездельничает); "Чирей бы в руки сел" (о неумехе).
О неумелых исполнителях: "Артистка из погорелого театра".
Семейная мудрость и наставления: "Без хозяина дом — сирота"; "Береженого Бог бережет"; "Битая посуда два века живет"; "Бог не выдаст, свинья не съест"; "Бодливой корове бог рог не дает"; "Большому куску рот радуется"; "Брань на вороту не виснет"; "Была бы шея — хомут найдется"; "Были бы кости — мясо нарастет"; "Будет день — будет и пища"; "Будь смелей — скорей повесят"; "В большой семье клювом не щелкай"; "В копнах — не сено; в долгах — не деньги"; "В тихом омуте черти водятся"; "Волков бояться — в лес не ходить"; "Воскресный (праздничный) сон — до обеда"; "Вскоре Бога не умолишь"; "Выбирай корову по рогам, а девку по родам"; "Готовь сани зимой, а телегу летом"; "Дадут тебе прикурить" (если не будешь слушать старших); "Даст Бог день — даст и пищу"; "Деньги счет любят"; "Держи ухо востро"; "Дыма без огня не бывает"; "Ждать да догонять, хуже нет"; "За битого двух небитых дают"; "За пропало — бьют (берут), чем попало"; "За двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь"; "Знай край, да не падай"; "Знайка лежит, а незнайка по дорожке бежит"; "Знал бы, где упасть, соломку бы подстелил"; "Жизнь прожить — не поле перейти"; "Каждый (всякий) кулик свое болото хвалит"; "Каждый (всякий) сверчок знай свой шесток"; "Как аукнется, так и откликнется"; "Капля дегтя портит бочку меда"; "Капля камень точит"; "Кашу маслом не испортишь"; "Копейка рубль бережет"; "Копна мышь не раздавит"; "Куда иголка, туда и нитка"; "Купил дом — купи соседа"; "Ласковый теленок двух маток сосет"; "Лето-запасиха, зима-прибери-ха"; "Лук от семи недуг"; "Маленка собачка до старости щенок"; "Много знаешь — мало спишь"; "На Бога надейся, но и сам не плошай"; "На то и щука, чтобы карась не дремал"; "На чужой каравай рот не разевай"; "На чужой роток не накинешь платок"; "На чужой сторонушке рад своей воронушке"; "Насильно мил не будешь"; "Не бывает пятницы раньше четверга"; "Не было счастья, да несчастье помогло"; "Не буди лихо — пока оно тихо"; "Не все коту Масленица, придет и Великий пост"; "Не все то золото, что блестит"; "Не гневи Бога"; "Не делай добра — не получишь зла"; "Не зная броду, не суйся в воду"; "Не плюй в колодец — придется воды напиться"; "Не свисти — счастье просвистишь"; "Не спеши языком — торопись делом"; "Не тянись (не потягивайся) за столом, лень не рости"; "Нет худа без добра"; "От худого семени не будет хорошего племени"; "Пей — да дело разумей"; "По своей дорожке протягивай ножки"; "По одной половичке ходи, на другую не заглядывай"; "Подальше положишь — поближе возьмешь"; "Под лежачий камень вода не течет"; "Помотаешь соплей на кулак" (если не будешь слушаться, то будешь мучиться); "Помянешь меня, да поздно"; "Раз в году и палка стреляет"; "Свист деньгу выгоняет"; "Свято место пусто не бывает"; "С грязного — не треснешь; с чистого — не воскреснешь"; "Своя ноша не тянет"; "Семь бед — один ответ"; "Середка сыта — и концы говорят"; "Сиди дома, как Ерема"; "Сколько веревочка не вейся, а конец будет"; "Слезами горю не поможешь"; "С миру по нитке — голому рубашка"; "Соловья баснями не кормят"; "Старый друг лучше новых двух"; "Страшен сон, да мило- стив Бог"; "Счастье придет — на печи найдет"; "У страха глаза велики"; "Утро вечера мудренее"; "Уши выше лба не растут"; "Хлеб на стол, и стол — престол"; "Христос терпел и нам велел"; "Что куплено — то свято"; "Что написано пером, не вырубишь топором"; "Что ни делается — то к лучшему"; "Что человеку на роду написано, то с ним и будет"; "Щи да каша — пища наша".
О житейских делах: "Акулька, что там булькат?..."; "Баба с возу — кобыле легче"; "Бог напитал — никто не видал"; " Будет сто лет в субботу, в обед"; "Бывает, что и март быку рога ломает"; "Был конь, да изъездился"; "Было бы ударено — вспухнет"; "Было, да быльем поросло"; " Будь, что будет"; "В боях и в походах" (об активном человеке); "Весь белый свет проспал"; "В огороде бузина, в Киеве дядька"; "Вагон и маленькая тележка" (всего много); "Ванька дома, Гришки нет! Гришка дома — Ваньки нет!"; "Волка ноги кормят"; "Вот и возьми его за рупь двадцать" (от человека ничего нельзя добиться); "Все полезно, что в рот полезло"; "Все это было бы смешно, когда бы ни было так грустно"; "Всем деревня не выйдет: лес близко, так вода далеко; вода близко, так лес далеко"; "Выше фонарного столба"; "Вятский народ хваткий — семеро одного не боимся"; "Вумный как вут-ка"; "Где был? — Мед-пиво пил. По усам текло, а в рот не попало"; "Голод — не тетка"; "Готовы Кошкины-Котовы"; "Грязь — не сало — высохла, отстала"; "Губа — не дура, язык — не лопата"; "Гусь свинье не товарищ"; "Дай уехал в Китай, остался один По-прошай": "Дар, не купля"; "День и ночь — сутки прочь"; День-не-рассветай" (пасмурный день); "Дела идут — контора пишет"; "Дело пахнет керосином"; "Дело ясное, что дело темное"; "Делят шкуру неубитого медведя"; "Дешево и сердито"; "До глухого весть дошла"; "Дождик вымочит, ветер высушит"; "До морковкина заговенья" (очень долго); "Драть как сидорову козу"; "Дроб-ненький парнишечка" (не толстый, поджарый); "Дырка свись, на юру праздник" (дома никого нет); "Думай башка — шапку куплю"; "Его черт в ступе не смелет" (про храброго и стойкого человека); "Если бы, да кабы, да в лесу росли грибы"; "Если бы ты не пришел, и тебя не знали бы, где взять" (спрашивающему о ком-то); "За милу душу"; "Заворачивай оглобли" (возвращайся назад); "Закрой рот — муха влетит"; "Замерз как цуцик"; "За неимением простой — пишем не гербовой" (дома пусто, а домашние роскошествуют); "Знать не знаю, ведать не ведаю"; "Здесь и конь с упряжкой потеряется"; "Ждала-ждала его, как из печи пирога" (очень был нужен); "Жила как за каменной стеной"; "Идем в одни ворота, чтобы избу не выхолаживать" (пойдем вместе); "Интересно девки пляшут, по четыре сразу в ряд" (что-то неожиданно произошло); "И не стрижено, и не брито"; "И печеным ему, и жареным (и сырым, и вареным)" (о подношениях); "Их было пять, нас двадцать пять, дрались-дрались, пока не сравнялись. Мы бы им дали, если бы они нас догнали"; "Как обухом по голове"; "Какой? Немазаный, сухой"; "Катись колбаской по улице Спасской"; "Кот из дому — мыши в пляс"; "Кум королю и сват министру"; "Леший его знает, где он (ходит)"; "Масло в печи угасло"; "Мило-не мило, деньги заплачены — надо есть"; "Мимо рта не пронесет"; "Много знаешь — мало пишешь"; "Много хочешь — мало получишь"; "Мы думали, свежи — а тут все те же"; "Наказанье за грехи"; "Нам не надо барабан, мы на пузе поиграм. Пузо лопнет — наплевать, под рубахой не видать"; "На охоту ехать — собак кормить"; "На скору руку"; "Напугаешь ежа голой задницей"; "На ходу подметки рвет (режет)" (ловкий, ушлый); "Наша горница с богом спорится (не спорится)"; "Не было печали — черти накачали"; "Не в бровь, а в глаз"; "Не верит, ни в чох, ни в сон, ни в птичий грай" (не суеверный); "Не дай Бог никому"; "Не два горошка на ложку"; "Не лаптем щи хлебаем"; "Не любо — не слушай, а врать не мешай"; "Не пришей кобыле хвост"; "Невестке в отместку"; "Не у мачехи росла"; "Ни два, ни полтора"; "Никто не знает, кроме базара"; "Ни синь пороха" (нисколько); " Ни сучка, ни задоринки"; "Ночь темна, ко- была черна. Еду-еду, да пощупаю: тут ли она?" "Ну, закатился" (заплакал или захохотал); "Она ему сказала: "За мной, мальчик, не гонись!"; "Оставайся лавка с товаром" (о любом неудачном предприятии или парень бросил беременную девушку); "От ворот поворот"; "Отлегло от з-цы"; "Отольются кошке мышкины слезки"; "Охота пуще неволи"; "Пан или пропал"; " Палка о двух концах"; "Первое слово дороже второго"; "Песня вся, песня вся, песня кончилася"; "Петухом поет" (что-то просит или очень рад чему-то); "Пешком с мешком"; "Пой песни, хоть лоб тресни"; "Поймал Бога за бороду" (повезло); "Положишь зубы на полку"; "Поехал в Москву — разогнать тоску" (о том, кто уехал в Москву); "Показать, так опрокинешься назадь"; "Поминает свинья за углом" (при икоте); "Посади оглоблю — кузов вырастет" (о благодатной почве"; "Посадить на божничку" (любить до обожания); "Потом — по заднице кнутом!"; "Пошло-поехало"; "Пошла писать губерния"; "Пришла пятница раньше четверга"; "Пришли к шапочному разбору"; "Пропадай, моя телега, все четыре колеса"; "Рад бы душой, да хлеб чужой"; "Разбежался с ковшом на брагу"; "Разговор в пользу бедных"; "Рот в муке, нос в муке, глаза в кислом молоке"; "Рот коси, да головой тряси — вот и будет песня"; " Сапоги мои тово: пропускают аш два о"; "Свиная полочка" (о грязном ребенке); "Свой рот на дороге"; "Своя своих не узнаешь"; "Святая правда"; "Святым духом питается" (ничего не ест); "Семеро по лавкам сидят"; "Семь бед — один ответ"; "Семь верст киселя хлебать"; "Скажи мне, и я тебе скажу" (о забывчивости); "Сколько песен, столько басен"; "Скрутить в бараний рог"; "Слыхом не слыхать, видом не видать"; "Смешат бесплатно" (говорят или делают что-то не так); "Сибирский водохлеб"; "Сказки бабушки Настасьи" (неправда); "Совсем замаяли, задергали"; "Сорока на хвосте принесла"; "Сравнили божий дар с яичницей (с мякиной)"; "Старая хата деда Игната"; "Старый конь борозды не портит"; "Стыд не дым, глаза не выест"; "С чужого коня посередь грязи долой!"; "Суббота — бабья работа"; "Суббота без солнышка не бывает"; "Суп из разных круп"; "Сыт, пьян и нос в табаке"; "Та корова, которая сдохла, больше молока давала"; "Так-то так, а потом-то как?"; "Татарин татарчонка любил-любил, да задавил"; "Твои бы речи, да Богу встречи"; "Тебе дадут, когда со стола понесут"; "Тебе небо с овчинку покажется"; "Телячьи помои" (о холодном супе или чае); "Тишь, да гладь, да божья благодать"; "То в лоб — то по лбу"; "Толкуй, кто откуль"; "Тому, кто любил Фому"; "Тонкий намек на толстые обстоятельства"; "Тьфу, тьфу, тьфу, чтобы не сглазить"; "У нашей Федрки все отговорки"; "У черта на куличках" (далеко); "Хлеб да соль! — Я ем свой, а ты рядом постой"; "Хлызда на правду выведет" (о тех, кто мухлюет в играх); "Федул, что губы надул? — Кафтан прожег! — А велика ли дыра? — Один ворот остался!"; "Хоть горшком назови, только в печку не ставь"; "Хоть камни с неба падай"; "Хоть масло на голову лей" (ничем не угодишь); "Хоть топор вешай"; "Человека узнаешь, когда с ним пуд соли съешь"; "Чертик-чертик, поиграй да отдай" (о потерянной вещи); "Черт силен, да воли мало"; "Честь честью"; "Что за шум, а драки нет?"; "Что портной сгадит — утюг сгладит"; "Что там тебе поблазнилось?" (показалось); "Щастлив на букву "ща"; "Это будет (произойдет), когда рак на горе свистнет"; "Эх, жизнь моя — жистянка"; "Я готова — дочь попова"; "Язык до Киева доведет"; "Язык на плечо" (устал, забегался); "Яйца курицу не учат".
О недостатках и пороках: "Без мыла в задницу залезет" (о подлизе или лицемере)5; "Будет день на нашу лень"; "В какой бочке деготь завелся — его не выведешь"; "В ступе толочь" (повторять одно и то же); "Возится, как курица в навозе"; "Воет, как волк на луну"; "Волком смотрит"; "Ворон ворону глаз не выклюет" (о коррупции); "Ври, да знай меру"; "Выскочил, как из задницы росток"; "Дотошная, как вошь портошная"; "Глаза бесстыжие"; "Глазоньки не сытые" (жадный); "Глотка луженая"; "Горе луковое"; "Гром не из тучи, а из навозной кучи"; "Губа толще
— брюхо тоньше" (о чванливом); "Дай Боже, что другим негоже"; "Для бешеной собаки семь верст не крюк"; "Домовой его не любит" (трудно застать дома); "Дурью мается"; "Его на кривой козе не объедешь" (о человеке с тяжелым характером); "Еще парочку таких друзей — и врагов не надо"; "Живые сороки из задницы летят" (о вруне или хвастуне); "За ушко да на солнышко"; "Зарекалась свинья помои хлебать"; "Заставь дурака богу молиться — он и лоб расшибет"; "Знаем мы вас! Были вы у нас! После не стало самовара у нас"; "Знает кошка, чье мясо съела"; "Заладила сорока Якова" (говорит вздор); "Залетела ворона в чужие хоромы"; "Золотой слезинки не выронит"; "И сам не гам, и другим не дам"; "Из деревни Девятковой" (некультурный человек); "Из-за деревьев леса не видит"; "Из-за угла мешком ударенный" (странный); "И ухом не ведет" (не обращает внимания); "И в телегу не сяду, и пешком не пойду" (об упрямом человеке)"; "Их спарить да черту подарить"; "Как Мамай воевал" (о беспорядке в доме); "Как петух на заборе"; "Как собака на сене"; "Как у змеи ног не найдешь (очень скрытный); "Каковы сами — таковы и сани" ("каковы сани — таковы и сами"); "Каша во рту растет" (о медлительном); "Кто идет воровать, тот идет и убивать"; "Куда конь с копытом — туда и рак с клешней" (о том, кто старается подражать другому, но делает это неудачно); "Кур воровал" (руки трясутся); "Легок на помине, как черт на овине" (о нежелательном визитере); "Лежит и смотрит в потолок"; "Лень вперед тебя выросла"; "Молодец против овец, а против молодца — сам овца"; "Молчит, как рыба в пироге"; "Мели Емеля, твоя неделя" (о пустой болтовне); "Наводит тень на плетень"; "Надулся как мышь на крупу"; "Надоел, хуже горькой редьки"; "Напустил туману"; "На сердитых воду возят, а зимой во льду морозят"; "На сердитых воду возят, а на дутых — кирпичи"; "Не долго музыка играла, не долго фраер танцевал"; "Не запряг еще, а уже поехал"; "Ни украсть, ни покараулить" (о никчемном человеке); "Носится, как Саврас без узды" (о ненужной активности); "Ну и пара: гусь да гагара"; "О тебе в Москве в лапоть звонят" (о зазнайке); "Объегорить (обмануть) кого-то"; "Отмолчится, как в саду отсидится"; "Отрезал кусочек с кобылий носочек" (жадный); "Отчего солдат гладок? Оттого, что поел, и набок"; "Пищит, да лезет"; "Плюнь в глаза — скажет "божья роса"; "Повадился кувшин по воду ходить, там ему и разбиту быть"; "Поганой метлой не выгонишь" (о тех, кто "влез" на выгодную должность); "Под каждой крышей свои мыши"; "Подхватили кота поперек живота"; "Пока гром не грянет, мужик не перекрестится"; "Полицейский крючок" (ко всем цепляется); "Понеслась душа в рай" (пустился во все тяжкие); "По Сеньке и шапка, по ядреной матери колпак"; "Послать по матушке — по Волге" (грубо обругать); "Придурок лагерный" (выражение появилось во время репрессий); "Пристал, как банный лист"; "Пропади ты пропадом" (говорили, когда сердились на какую-нибудь вещь или предмет); "Простота хуже воровства"; "Путаник царя Гороха (Давида)"; "Разговор в пользу бедных" (пустой разговор); "Разгулялась вошь в корсете"; "Рано пташечка запела, как бы кошечка не съела"; "Раскрыл рот шире банного окна"; "Рассказал воробья на сосне" (соврал); "Расшаперилась, как корова на льду" (неуклюжая); "Рука руку моет: обе грязные (о коррупции); "Руки загребущие, глаза завидущие"; "Руки-ноги не оставил" (воровство без улик); "Руки с клеем" (о воришке); "Рыбак рыбака видит издалека; "С худой коровы (овцы) хоть шерсти клок"; "Сама себя раба бьет, что нечисто жнет"; "Сам с самой в хлеву сидят" (хозяева уподобились свиньям); "С Волги, с Камы…" (о людях сомнительного происхождения); "С грязи трескается (лопается)"; "Свинья грязь найдет"; "Святая душа на костылях"; "Сдуру, как с дубу"; "Семь бочек арестантов" (наговорил); "Семь верст до небес и все лесом"; "Сидит и ухом не ведет"; "Сидит избоченившись"; "Сидит набычился"; "Сидит, как аршин проглотил"; "Сила есть — ума не надо"; "Синь да хорош — скинь да по-ложь!"; "Скажет, как возле себя положит"; "Скрипит, как немазаная телега"; "Скрякала, да и в камыш"; "Слышал звон, да не знает, где он"; "Солдат спит — служба идет"; "Спохватилася кума, когда ночь прошла"; "Соврет — недорого возьмет"; "Со свиным рылом, да в калашный ряд"; "Со своим котом, да за чужим скотом"; "Схватился поп за яйца, когда Пасха прошла"; "Сытое брюхо к голодному глухо"; "Сухая ложка рот дерет" (о взятке); "Тележного скрипу боится" (об очень робком человеке); "Типун на язык" (кого-то ругали); "Трусливый, но пакостливый"; "Хитрый Митрий — умер, а глядит"; "Хоть кол на голове теши"; "Черного кобеля не отмоешь добела"; "Чепуху городит"; "Что хочу — то и ворочу"; "Чтобы ему перешло, да стукнуло" (сердитое выражение); "Что-то он там напрокудил" (натворил); "Чужими руками жар загребает"; "Чужую беду руками разведу"; "Шатучая корова" (бродит неизвестно где); "Шелудивый поросенок в Петровки мерзнет"; "Шила в мешке не утаишь"; "Шито-крыто"; "Шкура барабанная"; "Улита едет, когда-то будет"; "У него зимой снега не выпросишь" (о жадном); "Ума палата"; "Умная — голова чугунная"; "Ухо с глазом" (очень шустрый, иногда вороватый); "Хвастливого с богатым не различишь"; "Язви его в душу" (сердитое выражение); "Язык, как помело".
О пьянстве: "Всяк выпьет, да не всяк крякнет"; "Как день не бьется — к ночи напьется"; "Кто празднику рад — за неделю (накануне) пьян"; "Муж за рюмку, жена за ковшик"; "Не прими, Боже, за пьянство — прими за лекарство" (говорит пьющий); "Ни тяти, ни мамы…" (пьяница ничего не помнит и не понимает); "Первая колом, вторая соколом, а третья — мелкими пташечками" (о рюмках с вином); "По поводу и дурак напьется, а ты попробуй без повода" (говорит пьющий); "Пьет мертвую чару" (о горьком пьянице); "Пьет? Нет, за ухо льет!" (с иронией о пьянице); "Умный пьет, пока не похорошеет; дурак — пока не поплохеет"; "Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке".
О дружбе, гостеприимстве и отношениях с людьми: "Дорогие гости, не надоели ли вам хозяева?" (спрашивают гости, если засиделись); "Дружба дружбой, а служба службой"; "Дружба дружбой, а табачок (денежки) врозь"; "Капуста — на столе не пусто"; "Не в службу, а в дружбу" (об услуге); "Ешь кума девяту шанежку, я, ведь, не считаю"; "Ешь пироги, наворачивай сметану"; "Ешьте, гости, пирожки с осердием" (с ливером); "Жаль мне тебя, да не так, как себя"; "За компанию и жид задавился"; "Наварила, напекла Акулина для Петра"; "Незваный гость хуже татарина"; "Наготовили, как на Маланьину свадьбу"; "Пей чай вприглядку"; "Пей чай, да двери примечай" (не засиживайся); "Пей чай — наводи тело"; "Приходите ко мне гости, когда дома меня нет"; "Ранний гость до обеда, поздний — до утра"; "Руки гадят, печка ладит" (о тесте); "Сам бы ел, да деньги надо" (говорят, когда хвалят свою стряпню); "Свиньи вилками хлебали из говядины уху" (неопрятно ели); "С молитвой, с пустом плюшки, чай…"; "Спасибо! — Спасибо, что нас не съели"; "Спасибо этому дому, пойдем к другому"; "Старый друг лучше новых двух"; "Сыта кума, коли гущи не ешь"; "Ужин не нужен, был бы обед"; "Хозяин русский, чай жидок!"; "Чаще счет — дольше дружба"; "Чай не пьешь! Какая сила? — Чай попил, совсем ослаб!".
О здоровье и о смерти: "Боярку караулить" (умереть); "Будь здоров, Пантелей, не чиши (не чихай) на людей; "Быстро скапустился" (находится при смерти); "В гробу карманов нет"; "До смерти два понедельника осталось"; "Еле-еле душа в теле"; "Его (ребенка) изурочили" (сглазили); "Мало болит — отдыхать дает"; "Нахохлился сидит" (начинает болеть); "Одно лечат — другое калечат"; "Перед смертью не надышишься"; "Раскаялась кума, когда смерть пришла"; "Смерть не спросит"; "Смерть причину найдет"; "Спросил у больного здоровья"; "Хворь ленивого отыщет".
О внешности и характере: "Волос от волосу не слыхать голосу" (о редких волосах); В чем душа держится"; ""Голова как у вола, а мне все кажется мала"; "Еле-еле душа в теле"; "Идет — муха ко лбу не льнет" (красивая); "Из десятка не выбросишь" (не хуже других); "Из трех лучинок сложена" (о худышке); "Красивая, как кобыла сивая"; "Красиво, да очень спесиво"; "Краше в гроб кладут" (бледная); "Кудри вьются — вши смеются" (о франте); "Лысая макушка от чужой подушки" (о парне, который лю- бит гулять); "Маланья — голова баранья"; "Морда шире банного окна"; "Не родись красив, а родись счастлив"; "Нос двум рос, а одному достался"; "Один глаз — на Кавказ, а другой — в Арзамас" (косой); "Поперек себя толще"; "Сирота — не пролезает в ворота"; "Старей поповой собаки"; "Хороша внучка Аннушка! — Хвалят мать да бабушка"; "Худая корова газелью не будет".
Об одежде: "Вся измодилась, расфуфырилась"; "Выкрасить да выбросить"; "Доброму вору все впору" (вся одежда подходит); "Дорого — мило; дешево — гнило"; "Голь на выдумку хитра" (об удачной перелицовке или переделке старого); "И в пир, и в мир, и в добры люди..." (одна и та же одежда везде используется); "Из большого не выпадешь"; "Из-под пятницы суббота" (из-под верхней одежды видна нижняя); "Как мышь в пологу"; "На косу-босу под ваксу" (обулся, а носок нет); "Нарядилась, как свинья в грязь"; "Нарядился, как китайский доброволец"; "Нашему подлецу все к лицу"; "Ну, и модница — сковородница"; "Одел сикось-накось"; "От долгов бегать" (короткая и узкая одежда); "Сверху блеск, а снизу треск"; "Сверху шелк, а в брюхе — щелк"; "Стильная, модная, а сама голодная"; "Фасон юбки называется "мужчинам некогда" (юбка с запахом)"; "Фик-фок на один бок"; "Форс морозу не боится".
О внутренних семейных отношениях, замужестве, муже, жене и детях: "Бабы каются, а девки замуж собираются"; "Бей сороку и ворону — попадешь в ясного сокола" (о выборе женихов); "Брат любит сестру богатую, а муж жену — здоровую"; "Бывает у девки муж умирает, а у вдовы живет" (все бывает); "Вспомнила, бабушка, девичью жизнь"; "Горе, горе — муж Григорий"; "Дал бог дитя, так дай ему разума"; "Дитя не плачет — мать не разумеет"; "Замуж выйти — не напасть, а как бы замужем не пропасть"; "Замуж (девку) манят — золотые горы сулят"; "Замужем не была и без мужа не жила"; "Зять любит взять"; "Милый — торопись, немилый — воротись"; "Муж и жена — одна сатана"; "Мужичок, что телок, к каждой березке постукается"; "На новом месте приснись жених невесте"; "Наша невестка все трескат — мед и тот прет"; "Нашему забору двоюродный плетень" (об очень далеком семейном родстве); "Не вздыхай глубоко — не отдадим далеко (хоть за курицу, да на соседнюю улицу)" (о замужестве); "Не ругай постылого — приберет бог милого"; "Ночная кукушка дневную перекукует"; "Одной матки, да разные детки"; "Плохой кавалер хорошему дорогу показывает"; "Покров, Покров, покрой землю снежком, а меня женишком" (говорят в праздник Покрова); "Променял кукушку на ястреба"; "Ребенка воспитывают, когда он поперек лавки лежит, а не повдоль"; "Родня: голяшка от старого бродня"; "Седьмая вода на киселе"; "Солдат, девок любишь? — Люблю! — А они тебя? — И я их!"; "Худой мужичонка, да огородишко".
О веселье: "Аж, чертям тошно стало"; "Хорошо веселье — тяжело похмелье"; "Умереть — не встать" (очень смешно): "Эх, топни нога, да притопни друга…".
Сегодня многие из приведенных семейных выражений не сохранились. Повседневная семейная западносибирская речь стала значительно беднее. Отмечается в ней и распространение сниженных, жаргонных и нецензурных выражений.
Однако продолжают возникать новые выражения, отражающие современную нам действительность, например: "Аж шуба заворачивается" (слишком нарядная); "Белая, несмелая, ромашка полевая"; "Все пучком" (все в порядке); "Брось, а то уронишь"; "Витамин "ц" — винцо, мясцо и маслицо; витамин "ш" — шпирт и шало"; "Гаси свет — бросай гранату"; "Дурака работа любит — дурак работу хвалит"; "Дурдом "Ромашка"; "Если он начнет водкой торговать — назавтра все пить бросят" (о неумелом продавце); "За бесплатные уши зацепилась" (нашла слушателей); "Как подсолнечное масло" (нудный); "Кончай базар" (предостережение, что нужно заканчивать разговор); "Косить под кого-то" (стараться походить); "Мать моя женщина"; "Не умеешь — научим; не хочешь — заставим"; "Ничего, что грудь впалая, зато спина колесом"; "Разговор не в тему"; "Повис, как мат на заборе"; "Под оркестр и жаба запоет" (о слабом исполнителе); "Против лома нет приема (кроме лома)"; "Ростом по колено и на коньках" (о невысоком кавалере); "Рюмка — не микрофон, и мы не на съезде" (о длинных застольных речах); "Склеил ласты" (умер); "Сложил пальцы веером" (возгордился); "Темнота — друг молодежи"; "Типа" (как бы); "Тише едешь — дальше будешь, от того места, куда едешь"; "Черт знает что, и сбоку бантик"; "Чешуей блеснуть" (покрасоваться); "Эти бы ручонки, да под трамвайчик" (о неумелых руках) и др.
Изучая устойчивые языковые семейные выражения, мы получаем возможность предложить исследования, "связывающие семантику "мира" с социально-структурным развитием общественной системы" [7, с. 280]). Кроме того, мы можем вплотную подойти к изучению той части современной социальной реальности, которая еще остается текучей по своему содержанию, не застыла и окончательно не сформировалась.
С помощью изучения семейных слов решается проблема "ненаблюдаемости" социальных и личностных феноменов — они становятся наблюдаемыми.
"Призвание социологии, — пишет З.Бауман, — заключается в наши дни в сохранении и расширении той части человеческого универсума, которая выступает предметом дискурсивного изучения, и тем самым в спасении ее от закостенения, от превращения в состояние, когда выбирать становится не из чего" [12, с.13].