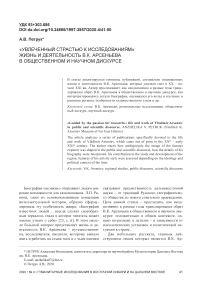"Увлеченный страстью к исследованиям": жизнь и деятельность В.К. Арсеньева в общественном и научном дискурсе
Автор: Петрук Анжелика Витальевна
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Археология, антропология и этнология в Circum-Pacific
Статья в выпуске: 4 (54), 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется комплекс публикаций, специально посвященных жизни и деятельности В.К. Арсеньева, которые увидели свет в XX - начале XXI вв. Автор прослеживает, как неоднозначно в разные годы транслировался образ В.К. Арсеньева в общественном и научном дискурсе, как интерпретировались детали биографии, оценивался его вклад в изучение и развитие региона, особенности художественного стиля и др.
В.к. арсеньев, региональные исследования, общественный дискурс, научный дискурс
Короткий адрес: https://sciup.org/170175963
IDR: 170175963 | УДК: 93+303.686 | DOI: 10.24866/1997-2857/2020-4/41-50
Текст научной статьи "Увлеченный страстью к исследованиям": жизнь и деятельность В.К. Арсеньева в общественном и научном дискурсе
Биографии «великих» открывают людям широкие возможности для самопознания. Л.П. Репина, один из основоположников концепции интеллектуальной истории, образно сформулировала эту особенность жанра: «Биографии известных людей …всегда служат своеобразным зеркалом, глядя в которое читатель может многое узнать о себе» [23, с. 6]. В этом смысле большой интерес представляет жизнь и деятельность В.К. Арсеньева – путешественника, исследователя, писателя, которому выпало жить и работать на стыке эпох и с чьим именем связывают преемственность дальневосточной науки – от традиций Русского географического общества до нового советского краеведения. Цель данной статьи – проследить, как неоднозначно в разные годы транслировался образ В.К. Арсеньева в общественном и научном дискурсе: положительно в общем контексте, однако по-разному в деталях – в зависимости от идеологических установок и политической ситуации в стране.
Два небольших рассказа, главным действующим лицом которых является В.К. Ар- сеньев, были опубликованы еще при его жизни: это написанные участниками его походов И.А. Дзюлем и П.П. Бордаковым воспоминания о совместных путешествиях, где авторы дают характеристику В.К. Арсеньеву, описывая его каждодневную работу в экспедиции. Рассказ И.А. Дзюля «В тайге» увидел свет в 1910 г. на страницах петербургского журнала «Наша охота» [10], а эссе П.П. Бордакова «На побережье Японского моря» было опубликовано в 1914 г. в нескольких номерах журнала «Юная Россия» [5].
Публикации об Арсеньеве, вышедшие в первое десятилетие после смерти исследователя, за исключением некролога в газете «Красное знамя», носили преимущественно негативный оттенок. В канун первой годовщины его ухода, в 1931 г. главная региональная газета выпустила статью некоего Г. Ефимова под заголовком «Арсеньев как выразитель идеи великодержавного шовинизма» [13]. Автор, конечно, скрыл свое имя под псевдонимом, но здесь важно другое: он выразил мнение редакции, а в целом – и «всего советского народа», как писали в те годы. Автор статьи упрекал Арсеньева в том, что тот якобы пытался протащить свое «мелкобуржуазное мировоззрение» в новую пролетарскую науку. Его выставили врагом трудового народа, припомнив его негативное отношение к китайским отходникам, которые проживали в крае нелегально и, как считал Арсеньев, занимались грабежом и разбоем, расхищали природные ресурсы тайги, нещадно при этом эксплуатируя коренное население региона.
Примерно в это же время, в начале 1930-х гг., готовилась к публикации первая официальная биография В.К. Арсеньева, составленная профессором Московского университета Ф.Ф. Аристовым. Стоит сожалеть о том, что это исследование так и не увидело свет. Аристов, знавший Арсеньева лично и состоявший с ним в многолетней переписке, к 1930 г. написал пространный биографический очерк, который готовил к изданию в виде отдельной книги. Изначально он планировал поместить эту биографию в свой труд «Русские путешественники – исследователи Азии», и в письмах всячески мотивировал Арсеньева написать подробную автобиографию. Судя по материалам их переписки, сохранившейся в архиве Общества изучения Амурского края (Архив Общества изучения Амурского края, далее – АОИАК. Ф. 14. Оп. 3. Д. 5), уже в 1929 г. Арсеньев выразил согласие выслать материалы, которые Аристов планировал использовать для написания очерка, приуроченного к празднованию 30-летия деятельности Арсеньева на Дальнем Востоке. Этот очерк был положен в основу вступительной статьи к десятитомному собранию сочинений В.К. Арсеньева, которое в конце 1920-х гг. готовилось к публикации в издательстве «Молодая гвардия» (АОИАК. Ф. 14. Оп. 3. Д. 5. Л. 1). Издание так и не состоялось, а сам очерк в сокращенном виде под названием «Владимир Клавдиевич Арсеньев (Уссурийский)» увидел свет на страницах журнала «Землеведение» уже после смерти Арсеньева [3]. Как следует из переписки, Арсеньев изначально был против приставки к своей фамилии. Аристов настаивал, утверждая, что таким образом будет легче наводить справки о нем в словарях и энциклопедиях. К тому же, если есть Семенов-Тянь-Шанский, почему бы не быть Арсеньеву-Уссурийскому?
Никаких предположений о том, почему так и не увидел свет этот большой очерк, не высказывают ни дочь профессора Татьяна Аристова, которая на протяжении нескольких лет работала с наследием отца [4], ни А.И. Тарасова – один из ведущих арсениеведов XX в. С комментариями Тарасовой очерк Аристова был опубликован в журнале «Дальний Восток» в 1974 г. [30]. Ссылаясь на переписку Аристова с Арсеньевым, а позднее – с его женой Маргаритой Николаевной, Тарасова упоминает о том, что Аристов работал очень спешно, его торопили из издательства, даже не оставили времени на то, чтобы перепечатать рукопись на машинке. Поэтому очерк вышел «сырой», и он сам просил редактора не ставить его авторскую подпись, а лишь обозначить, что вступительная статья составлена «на основании материалов, имеющихся у Ф.Ф. Аристова» [30, с. 124]. Таким образом, к 1930 г. задуманный Аристовым пространный очерк не был готов к публикации. А внезапный уход Арсеньева из жизни сделал невозможным, или, по крайней мере, значительно отодвинул во времени издание его трудов. Двумя годами позднее не стало и самого Аристова. Рукописный вариант очерка, несмотря на предпринятые Татьяной Аристовой попытки его разыскать, затерялся. Однако даже в таком виде, в каком очерк появился на страницах журнала «Землеведение», он может считаться первой опубликованной биографией В.К. Арсеньева.
Очерк носит описательный характер, автор много внимания уделил детству и отрочеству
Арсеньева, в ущерб описанию его экспедиционного опыта: экспедиции на Сихотэ-Алинь лишь упомянуты, «секретные» экспедиции 1911– 1913 гг. поданы как походы за сбором археологических артефактов. К тому же, повествование о жизни Арсеньева обрывается на 1924 г. Вероятно, автор доработал бы свой очерк, если бы издательство заявило о намерении выпустить десятитомник сочинений Арсеньева, хотя бы и посмертно. Однако в обстановке начала 1930-х гг. это было уже вряд ли возможно. В стране началось наступление на классическое краеведение, которое завершилось полным его разгромом в годы «большого террора». В.К. Арсеньева к тому времени уже не было в живых, но его имя прочно увязали с термином «великодержавный шовинизм». Именно в таком контексте он упоминается в статье «За большевистскую бдительность в краеведении», опубликованной в 1932 г. в первом номере журнала «Советское краеведение». Скрываясь за псевдонимом «Г.В.», автор статьи клеймит тех, кто занимается изучением региональной истории без оглядки на постановления X пленума Центрального бюро краеведения, в резолюции которого отмечалась необходимость «вести решительную борьбу с проникновением в советское краеведение великодержавного шовинизма как классово враждебной идеологии» [8]. В числе тех, кого стоило «беспощадно разоблачать», упомянут и Арсеньев: «Шовинистический душок имелся и у покойного исследователя Никольск-Уссу-рийского края В.Н. Арсеньева (“Дерсу Узала”, “Гольды”, “Орочи” и др.)» [8]. В публикации перепутаны инициалы и неверно названы работы Арсеньева, но речь идет именно о нем, и, что важно, упоминание его имени в таком контексте исключало в те годы всякую возможность публикации его трудов. Таким образом, запланированное в 1930-х гг. издание не состоялось, и очерк, написанный Ф.Ф. Аристовым, не увидел свет. Поэтому публикация в журнале «Землеведение» – единственная написанная при его участии биография В.К. Арсеньева, изданная в предвоенные годы.
Первые серьезные исследования о жизни и деятельности В.К. Арсеньева появились во второй половине 1940-х гг., когда на волне разбуженного войной патриотизма, с разрешения властей, в прессе стали публиковаться статьи о знаменитых путешественниках, выдающихся деятелях науки, начинавших свой путь еще в царской России. Им «простили» их дорево- люционный опыт, а в отношении некоторых, в том числе Арсеньева, даже выдвинутые ранее обвинения в шпионаже и контрреволюционной деятельности. В 1945 г., по решению Приморского крайисполкома, имя В.К. Арсеньева было присвоено краевому музею и улице Производственной (бывшей Федоровской), на которой, в доме № 7, знаменитый путешественник провел последние годы своей жизни. В 1947 г., в канун 75-летия со дня рождения В.К. Арсеньева, состоялись две большие публикации: одна – в центральном издательстве [14], а другая – в дальневосточном[24].
Н. Рогаль в историко-биографическом очерке об Арсеньеве не приводит никаких данных о его детстве, семье, учебе и начале службы, но в его книге есть попытка оценить деятельность Арсеньева по исследованию Дальнего Востока в контексте времени: автор подчеркивает слабую изученность Уссурийского края к началу XX в. и описывает вклад Арсеньева в расширение знаний о регионе. Очевидно влияние на автора господствующей идеологии: всячески стремясь показать преимущества советской системы над политико-экономическим устройством царской России, он даже случившиеся в экспедициях голодовки представляет следствием нерасторопности и халатности тогдашних властей. Так, описывая благополучный выход путешественников к питательной базе в 1927 г., и вспоминая в связи с этим голодовку Арсеньева и его спутников на реке Хуту в экспедиции 1908–1910гг., он подчеркивает: «Разве мог Арсеньев чувствовать себя так же защищенным при царской власти?» [24, c. 43]. Отдавая должное экспедиционному опыту Арсеньева, подчеркивая его роль в развитии музейного дела на Дальнем Востоке, автор, однако, указывает на идеологическую недальновидность исследователя, обвиняя его в неверной оценке перспектив экономического развития региона, в недоверии к новым формам организации труда (колхозному строительству и применению новой техники). Считая этнографию ареной классовой борьбы, Рогаль также упоминает об ошибках Арсеньева в оценке положения инородцев. Упоминая экспедиции по выселению незаконно проживающих в тайге китайцев, он признает научное значение собранных Арсеньевым материалов, однако считает, что Арсеньев «…был в плену официальной буржуазной точки зрения на т.н. “восточный вопрос”, толковал о желтой опасности…» [24, c. 30]. Смещая акценты, автор сочувствует проживающим в тайге китайцам и говорит о жестокой эксплуатации их русскими капиталистами-промысловиками, не признавая при этом повсеместного ограбления коренного населения китайскими отходниками. Оценивая Арсеньева как писателя, Рогаль утверждает, что именно одобрительное письмо М. Горького в 1928 г. побудило исследователя к художественному переосмыслению своих дневниковых записей. При этом автор игнорирует тот факт, что к 1917 г. уже были написаны «Дерсу Узала» и «По Уссурийскому краю». Весьма оригинально, но вполне в духе времени он трактует это в своем исследовании: «Решающую роль сыграло появление нового демократического читателя, которому исследователь почел себя обязанным рассказать о всем виденном и на признание которого он тоже мог рассчитывать. Не случайно рубежом, когда окончательно определилось его литературное призвание, стал 1917 – год Великой Октябрьской социалистической революции» [24, c. 55]. Автор восторгается образностью речи Арсеньева, но при этом указывает на его «классовую ограниченность», на «узость рамок», упрекая исследователя в том, что тот не выходит за пределы тайги и игнорирует позитивные изменения, происходящие в городах при новой власти, не затрагивает в своих произведениях острых социальных вопросов. Странно предъявлять такие обвинения писателю, который позиционировал себя как натуралист и в своих книгах всего лишь пытался обобщить свой экспедиционный опыт. Однако подобная критика была вполне в духе времени, когда любое художественное произведение проверяли на лояльность власти и препарировали с точки зрения его соответствия принципам пролетарского интернационализма. Все же Н. Рогаль провел большую работу, привлекая, помимо ранее опубликованных, материалы из Государственного архива Хабаровского края и Хабаровского музея им. Н.И. Гродекова. Он подвел итог экспедиционной и научной деятельности Арсеньева, впервые оценив его вклад в изучение Дальнего Востока.
В послевоенные годы во Владивостоке состоялось первое системное издание трудов В.К. Арсеньева: шеститомное собрание сочинений, в которое вошли не только художественные произведения, но и некоторые статьи, научные доклады и другие материалы из наследия известного путешественника. Большую работу по подготовке этого издания провел друг Арсенье- ва, участник одной из его экспедиций, Николай Кабанов. Благодаря его усилиям справочный аппарат издания пополнился списком работ Арсеньева, публикаций о нем, а также описанием архива исследователя из собрания Приморского филиала географического общества. Опыт по работе с наследием В.К. Арсеньева пригодился Кабанову в написании собственного труда – книги о жизни и деятельности В.К. Арсеньева. Поскольку автор был лично знаком со своим героем, книга получилась живая и интересная. Кабанов излагает и мотив написания своего исследования: в 1945 г., в год 15-летия со дня смерти В.К. Арсеньева, по инициативе научных организаций Приморского и Хабаровского краев было решено создать биографический очерк и «на примере его жизни и работ показать, что богатства природы Дальнего Востока ждут и будут еще ждать новых людей для их освоения» [14, c. 5].
Опираясь на документы из архива Приморского отделения географического общества и на свой личный опыт общения с В.К. Арсеньевым, Кабанов приводит интересные сведения о его жизни и деятельности. Автор первым предпринял попытку систематизировать наследие Арсеньева, описывая его вклад в науку по отраслям: краеведение, флора и фауна, археология и история, этнография и т.д. Как и Рогаль, Кабанов не свободен от идеологических штампов. Отмечая вклад Арсеньева в изучение быта и культуры коренных народов Дальнего Востока, он считает его описание «статическим», а политические суждения – ошибочными. И в связи с этим утверждает, что Арсеньев не смог разглядеть политические и социальные сдвиги, которые произошли после революции в жизни коренного населения региона. Даже перевод книги «В дебрях Уссурийского края» на немецкий язык (издание 1923 г.) автор трактует в духе времени: «…Немецкая агентура познакомилась не столько с интересной книгой Арсеньева, сколько с вожделенным для них участком богатого Приморья» [14, c. 62]. На страницах своей книги Кабанов даже утверждает, что Арсеньев помогал партизанам в годы гражданской войны: «…В период белогвардейского разгула в Приморье ... , когда отряды красных партизан принуждены были временно отходить в тайгу, Арсеньев снабдил их командование картами и планами районов пребывания отрядов партизан и войск противника (японцев)» [14, c. 21]. Вероятно, за этим утверждением скрывалась попытка автора доказать лояльность Арсеньева к новой власти, т.к. в других источниках этот факт не упоминается. Кабанов, как участник одной из экспедиций Арсеньева, отводит значительное место в своей книге описанию его путешествий. Ошибочно относя встречу Арсеньева с Дерсу к 1902 г., он все же довольно подробно описывает экспедиции 1906–1910 гг., поездку на Камчатку в 1918 г. и экспедицию 1927 г. по маршруту Советская Гавань-Хаба-ровск, в которой сам принимал участие в качестве геоботаника. И еще одно важное достижение автора: в своем исследовании он дает классификацию литературных трудов Арсеньева, разделив их на три группы: работы общегеографического и краеведческого характера, специальные исследования, литературно-художественные труды [14, c. 38].
Особую страницу в работе с наследием В.К. Арсеньева открыл ученый-фольклорист Марк Азадовский, который впервые предпринял попытку дать научный анализ его литературного творчества. Книга «В.К. Арсеньев – путешественник и писатель. Опыт характеристики» вышла в свет в Чите в 1955 г. [1]. В предисловии к изданию литературовед Е. Петряев пишет о том, что книга знаменует 25-летний юбилей ухода Арсеньева из жизни. Азадовский, знавший Арсеньева лично, собрал коллекцию неопубликованных материалов и писем Арсеньева, и готовил их к публикации в своем исследовании. Однако смерть ученого в 1954 г. помешала изданию его труда, и книга вышла через год, незаконченной – в том виде, в каком ее успел подготовить автор [1, c. 3].
В своей книге Азадовский много внимания уделяет исследовательскому методу Арсеньева, считает его последователем Пржевальского и Семенова-Тянь-Шанского, которые выступали за комплексный подход к изучению новых территорий [1, c. 9]. Азадовский принимал участие в работе этнографического кружка, созданного Арсеньевым при Хабаровском музее в 1913 г. Он приехал в Хабаровск с целью собрать фольклорный материал в славянских селах Приамурья, и Арсеньев не только всячески поддерживал его в работе, но и стремился помочь в публикации результатов этого исследования [20, c. 84–90]. В конце 1914 г. Азадовский уже вернулся в столицу, но продолжал общаться с Арсеньевым, поддерживая переписку. Молодой коллега был в числе тех, кому Арсеньев отправил в дар свою первую книгу, изданную в Ха- баровске в 1914 г., – «Китайцы в Уссурийском крае», и Азадовский в своем исследовании дает этой книге очень высокую оценку. Он видит ее ценность в том, что первая глава «Китайцев» представляет собой краткое изложение первой главы «Краткого военно-географического и военно-статистического очерка Уссурийского края», опубликованного в 1911 г. штабом Приамурского военного округа под грифом «секретно», следовательно – недоступного широкому читателю. Поэтому «Китайцы», по мнению Азадовского, стали первым изданием, в котором содержались и предъявлялись публике систематизированные сведения о флоре и фауне Приморья.
На страницах своей книги Азадовский спорит с Кабановым и другими исследователями творчества Арсеньева, которые утверждали, что Владимир Клавдиевич нашел свой литературный стиль только после того, как получил одобрительное письмо Горького. Опираясь на личную переписку и ссылаясь на дневники Арсеньева, Азадовский утверждает, что обе книги – «По Уссурийскому краю» и «Дерсу Узала» – были написаны Арсеньевым гораздо раньше, в 1916 г., и только дефицит бумаги стал препятствием к их публикации [1, c. 40]. Будучи профессиональным литературоведом, Азадовский анализирует особенности литературного языка Арсеньева. Он считает, что основные черты арсеньевского стиля проявились в его наиболее раннем произведении – «Отчете о деятельности Владивостокского общества любителей охоты», опубликованном в 1905 г. В этой публикации, считает автор, уже видна творческая манера Арсеньева – сочетание исследователя и художника. Приводя большие фрагменты из этой работы, Азадов-ский обращает внимание на подробность описания, внимание автора к деталям (например, в характеристике двух видов промышленников), и в то же время – на богатство образов в описании природы, метафоричность языка, как, например, в отрывке, условно озаглавленном «Стон тайги» [1]. Азадовский утверждает, что Арсеньева необоснованно упрекали в «таежном романтизме», что он был реалистом, и, изучая и описывая тайгу в деталях, всячески стремился обратить это новое знание на пользу людям [1, c. 68].
Одновременно с книгой М. Азадовского в серии «Замечательные географы и путешественники» вышла небольшая брошюра Г.В. Карпова
«В.К. Арсеньев» [15]. Она не стала заметным явлением, но внесла свой вклад в популяризацию знаний об Арсеньеве. Автор очерка приводит биографию знаменитого путешественника, используя в своем повествовании фрагменты из его произведений.
В это же время, в середине 1950-х гг., предпринимаются первые попытки научного анализа творчества В.К. Арсеньева. В 1954 г. В.К. Путоловой была защищена кандидатская диссертация «В.К. Арсеньев и его литературная деятельность». Оценивая работу Арсеньева с позиций современной ей идеологии, автор исследования утверждает, что только в советское время Владимир Клавдиевич состоялся как писатель и ученый, при этом умаляет его достижения дореволюционного периода: экспедиции в Сихотэ-Алинь, работу в музеях, написание первых трудов. К несомненным достоинствам диссертационной работы следует отнести тот факт, что автор впервые ставит вопрос о жанровой принадлежности трудов Арсеньева, определяя его книги как художественную литературу [22].
Целый ряд публикаций о жизни и деятельности В.К. Арсеньева появились в период 1960-х – 1970-х гг. В 1961 г. В. Виноградова ввела в научный оборот несколько неопубликованных ранее материалов о деятельности Арсеньева на Дальнем Востоке [6]. В 1971 г. вышла статья этнографов-лингвистов Л.И. Сем и Ю.А. Сем, в которой впервые была предпринята попытка систематизации экспедиционных дневников и поденных записей путешественника [25]. Серьезную работу по изучению художественного метода Арсеньева провел Владивостокский исследователь Н.В. Старовойтов, опубликовавший в начале 1970-х гг. целый ряд работ [26].
В 1977 г. в издательстве «Советский писатель» вышла книга ленинградского критика И. Кузьмичева, который анализирует литературный стиль Арсеньева и относит его труды к жанру прозы о путешествиях [17]. Несколько публикаций о жизни и деятельности В.К. Арсеньева принадлежат перу хабаровского исследователя Г. Пермякова. В 1960-е – 1970-е гг. он много общался с сыном и первой женой Арсеньева – Владимиром Владимировичем и Анной Константиновной, которые с середины 1950-х гг. жили в Находке. Однако его работы весьма субъективны, и данные, которые он приводит, зачастую неточны или ошибочны [19]. На форзаце его книги «Тропой женьшеня», которая хранится в собрании Музея истории Дальнего
Востока имени В.К. Арсеньева (ранее – Приморский государственный объединенный музея им. В.К. Арсеньева), Владимир Владимирович собственноручно сделал пометку: «Много вранья и отсебятины» (Музей истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева. МПК 16552/9).
1980-е гг. стали новым этапом в работе с ар-сеньевским наследием. В постперестроечный период появилось много публикаций, авторами которых были ученые, писатели, журналисты [16; 18; 26]. В 1980 г. в Уссурийске, а в 1984 г. – в Хабаровске состоялись научно-практические конференции, посвященные различным аспектам исследовательской деятельности В.К. Арсеньева. С 1987 г. в Приморском государственном музее им. В.К. Арсеньева стали регулярно проходить «Арсеньевские чтения»: исследователи собирались на площадке краевого музея в 1997, 2000, 2005, 2007, 2012 и 2017 гг. На конференции 1987 г. впервые прозвучал термин «арсени-еведение», которым с тех пор стали обозначать весь спектр исследований, связанных с наследием В.К. Арсеньева.
В 1985 г. в серии «Русские путешественники и востоковеды» вышла в свет биография В.К. Арсеньева, составленная научным сотрудником Института Дальнего Востока АН СССР А.И. Тарасовой [28]. Эта книга на несколько десятилетий стала базовым материалом для всех, кто интересовался жизнью и деятельностью известного путешественника. В процессе создания своего труда Тарасова провела большую работу по систематизации наследия В.К. Арсеньева в архивах и музеях страны. Она обработала архив Арсеньева, хранящийся в собрании Приморского филиала РГО, и составила опись, которой пользуются исследователи и в наши дни. В книге есть ряд неточностей и конъюнктурных моментов: слишком много внимания уделяется детским годам исследователя, с упором на его происхождение (отец Владимира Клавдиевича был сыном крепостной крестьянки), в ущерб другим периодам его жизни (в книге, например, совсем не упоминаются «секретные» экспедиции 1911–1913 гг.), необоснованно раздут конфликт В.К. Арсеньева с Н.Н. Гондатти, нет никакой информации о судьбе второй жены и дочери В.К. Арсеньева и т.п. Несмотря на это, книга Тарасовой стала на тот момент наиболее полной биографией В.К. Арсеньева, составленной с привлечением большого круга источников. В 2012 г., к 140-летию со дня рождения В.К. Арсеньева, книга была пере- издана по инициативе и на средства ОИАК, но без дополнений и правок [29].
В следующем десятилетии произошли важные для сохранения арсеньевского наследия события: в 1997 г., в канун 125-летия со дня рождения В.К. Арсеньева, был открыт мемориальный музей путешественника во Владивостоке, который стал филиалом краевого музея. В это же время пополняется новыми материалами коллекция В.К. Арсеньева в фонде Приморского государственного музея им. В.К. Арсеньева, и выходит в свет ее сводный каталог. Тогда же, к юбилею путешественника, по инициативе музея был издан памятный альбом «В.К. Арсеньев. Биография в фотографиях, воспоминаниях друзей, свидетельствах эпохи», который является скорее научно-популярным изданием, нежели исследованием. Тем не менее, в ходе его подготовки музейные работники, в сотрудничестве с фотографом Ю. Луганским, провели большую работу, представив на страницах альбома целый ряд впервые опубликованных документов из столичных архивов, относящихся к годам учебы и началу военной службы В.К. Арсеньева [7].
В 1990-е гг. начинает публиковать результаты своих исследований один их ведущих арсе-ниеведов конца XX – начала XXI вв. И.Н. Егор-чев [12]. Действительный член географического общества, лауреат премии им. В.К. Арсеньева, он стал редактором и автором вступительных статей к I и II томам академического издания сочинений В.К. Арсеньева, предпринятого издательством «Рубеж» совместно с ОИАК в начале 2000-х гг. Проведя серьезный анализ документов из фондов Российского государственного исторического архива Дальнего Востока, он впервые представил хронологию жизни В.К. Арсеньева в период с 1911 по 1913 гг. и подробно описал его участие в «секретных экспедициях», введя в научный оборот целый ряд неопубликованных ранее источников [11].
В начале 2000-х гг. на базе арсеньевского наследия были подготовлены и защищены три диссертационные работы: диссертация С.В. Гончаровой на соискание ученой степени кандидата исторических наук [9] и две работы филологов – Н.И. Плотниковой и Ю.А. Яроцкой [21; 35]. Литературоведы работали с трудами Арсеньева как с художественными текстами, анализируя способ восприятия мира и стилистические особенности его произведений, а историк С.В. Гончарова в своей диссертации осветила целый ряд вопросов, связанных с деятельно- стью В.К. Арсеньева как геополитика. Рассматривая влияние на его мировоззрение научных концепций рубежа XIX–XX вв., С.В. Гончарова выявляет позицию Арсеньева по вопросам колонизации региона, пишет о прогнозируемых им рисках в развитии территории, связанных с особенностями военно-стратегического положения Дальнего Востока. Автор, таким образом, проанализировал и обобщил взгляды В.К. Арсеньева на вопросы военно-стратегического положения и социально-экономического развития дальневосточной России.
Одной из серьезных работ о В.К. Арсеньеве, опубликованных за последнее время, стала его научная биография, которая вышла в издательстве «Наука» в 2005 г. [31]. Автор книги, владивостокский исследователь А.А. Хисамутдинов, неоднократно публиковал материалы о жизни и деятельности Арсеньева в региональной печати, изучал источники в собраниях архивов и музеев России и зарубежья [32; 33; 34].
Таким образом, очевидно, что многогранная личность В.К. Арсеньева в разные годы вызывала интерес у исследователей, побуждая к переосмыслению и литературному описанию его жизни и деятельности. В то же время современники писателя, участники его экспедиций, стремились оставить воспоминания о нем, описывая непростые обстоятельства походной жизни в тайге. При этом все они анализировали его личность в контексте собственных представлений, опираясь на свой мировоззренческий опыт, сформированный временем и зачастую – господствующей идеологией. Однако на рубеже XX–XXI вв., в связи с введением в научный оборот новых источников и появлением в исторической науке нового жанра – интеллектуальной биографии – возникает возможность рассматривать личность В.К. Арсеньева и анализировать его деятельность в широком историческом контексте современных ему событий, идей и научных течений.
Список литературы "Увлеченный страстью к исследованиям": жизнь и деятельность В.К. Арсеньева в общественном и научном дискурсе
- Азадовский М.К. В.К. Арсеньев - путешественник и писатель. Опыт характеристики. Чита: Читинское книжное издательство, 1955.
- Аристов Ф.Ф. Владимир Клавдиевич Арсеньев (Уссурийский). Фрагменты из исследования // Дальний Восток. 1984. № 9. С. 127-136.
- Аристов Ф.Ф. Владимир Клавдиевич Арсеньев (Уссурийский) // Землеведение. 1930. Т. 32. Вып. 3-4. С. 208-243.
- Аристова Т.В. В.К. Арсеньев вспоминает // Неделя. 1972. № 36. 4-10 сентября.
- Бордаков П.П. На побережье Японского моря // Юная Россия. 1914. №№ 1-12.
- Виноградова В. Владимир Клавдиевич Арсеньев: документы о В.К. Арсеньеве // Дальний Восток. 1961. № 1. С. 110-126.
- Владимир Клавдиевич Арсеньев. Биография в фотографиях, воспоминаниях друзей, свидетельствах эпохи / Сост. Ю. Луганский. Владивосток: Приморский государственный объединенный музей им. В.К. Арсеньева, 1997.
- Г.В. За большевистскую бдительность в краеведении // Советское краеведение. 1932. № 1. С. 7-17.
- Гончарова С.В. Исследования В.К. Арсе-ньева в контексте геополитических проблем Дальнего Востока России: дисс. ... канд. ист. н. Владивосток, 2002.
- Дзюль И.А. В тайге // Наша охота. Кн. III. СПб., 1910. С. 95-100.
- Егорчев И.Н. «Согласно личного приказания Вашего высокопревосходительства.» Секретные экспедиции В.К. Арсеньева 19111913 гг. Владивосток: Издательство ДВФУ, 2014.
- Егорчев И.Н. Тихий юбилей В.К. Арсе-ньева // Владивосток. 1995. 7 сентября.
- Ефимов Г. Арсеньев как выразитель великодержавного шовинизма // Красное знамя. 1931. 16 июня.
- Кабанов Н.Е. Владимир Клавдиевич Арсеньев. Путешественник и натуралист. М.: Издательство Московского общества испытателей природы, 1947.
- Карпов Г.В. В.К. Арсеньев. М.: Государственное издательство географической литературы, 1955.
- Кузнецов А. Ученый, писатель, патриот // Красное знамя. 1985. 15 ноября.
- Кузьмичев И.С. Писатель Арсеньев: личность и книги. Л.: Советский писатель, 1977.
- Куцый В. Без срока давности // Рыбак Приморья. 1989. 26 мая.
- Пермяков Г. Тропой женьшеня. Рассказы и очерки о В.К. Арсеньеве. Хабаровск: Хабаровское книжное издательство, 1965.
- Петрицкий В.А. Неизвестный автограф В.К. Арсеньева (В.К. Арсеньев и М.К. Азадовский) // Страны и народы Востока. М.: Наука, 1979. С. 84-90.
- Плотникова Н.И. В.К. Арсеньев, творческая индивидуальность писателя: жанровое разнообразие прозы: дисс. ... канд. филол. н. Владивосток, 2003.
- Путолова В.К. В.К. Арсеньев и его литературная деятельность: дисс. ... канд. филол. н. Л., 1954.
- Репина Л.П. Личность и общество, или История в биографиях // История через личность. Историческая биография сегодня / Под ред. Л.П. Репиной. М.: Квадрига, 2010. С. 5-16.
- Рогаль Н.М. В.К. Арсеньев. Истори-ко-биографический очерк. Хабаровск: ОГИЗ-ДАЛЬГИЗ, 1947.
- Сем Л.И., Сем Ю.А. О «путевых дневниках» и «записных книжках» В.К. Арсеньева // Дальний Восток. 1972. № 8. С. 128-130.
- Сердюк А. Сопутствовала счастливая звезда // Дальневосточный ученый. 1990. № 8.
- Старовойтов Н.В. Формирование художественных принципов В.К. Арсеньева и жанровое разнообразие его творчества (ранний период) // Вопросы журналистики и литературы. Владивосток, 1972. С. 128-149.
- Тарасова А.И. Владимир Клавдиевич Арсеньев. М.: Наука, 1985.
- Тарасова А.И. Владимир Клавдиевич Арсеньев. Владивосток: Изд. дом Дальневост. фе-дер. ун-та, 2012.
- Тарасова А.И. К истории первой биографии В.К. Арсеньева // Дальний Восток. 1974. № 9.
- Хисамутдинов А.А. Владимир Клавдие-вич Арсеньев. М.: Наука, 2005.
- Хисамутдинов А.А. Переписка двух путешественников. К 125-летию со дня рождения В.К. Арсеньева и Н.А. Байкова // Россияне в Азии. 1998. № 5.
- Хисамутдинов А.А. По Уссурийскому краю с Дерсу Узала // Владивостокское время. 1995. 14 октября.
- Хисамутдинов А.А. Последствия одного разговора: неизвестные страницы из жизни В.К. Арсеньева // Тихоокеанский комсомолец. 1988. 30 апреля.
- Яроцкая Ю.А. Творчество В.К. Арсенье-ва. Специфика научно-художественной системы: дисс. ... канд. филол. н. Владивосток, 2005.