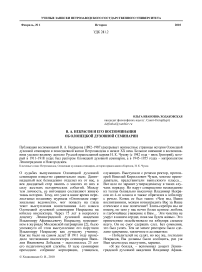В. А. Некрасов и его воспоминания об Олонецкой духовной семинарии
Автор: Ходаковская Ольга Ивановна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: История
Статья в выпуске: 1 (106), 2010 года.
Бесплатный доступ
Петрозаводск, олонецкая духовная семинария, история православия в карелии, н. к. чуков
Короткий адрес: https://sciup.org/14749661
IDR: 14749661
Текст статьи В. А. Некрасов и его воспоминания об Олонецкой духовной семинарии
О судьбах выпускников Олонецкой духовной семинарии известно сравнительно мало. Девятнадцатый век безнадежно отдалил их от нас, а век двадцатый стер память о многих из них в силу жестких исторических событий. Между тем личность, ее интонация составляют живую ткань истории. Тому, кто уже в наше время перелистывал подшивку журнала «Олонецкие епархиальные ведомости», мог попасть на глаза текст выступления воспитанника 4-го класса Олонецкой духовной семинарии Некрасова на юбилее инспектора. Через 75 лет в некрологе доценту Ленинградской духовной академии Владимиру Афанасьевичу Некрасову, помещенном в журнале Московской патриархии [2], было упомянуто об этом выступлении: его поручили Владимиру Некрасову как лучшему ученику. Как же было на самом деле? В 1911 году проходило чествование инспектора семинарии Василия Ивановича Лебедева – исполнилось 25 лет его педагогической службы. В зале семинарии проходило собрание корпорации, учащихся, служащих. Выступали с речами ректор, протоиерей Николай Кириллович Чуков, многие преподаватели, представители выпускного класса… Все шло по заранее утвержденному в таких случаях порядку. Но вдруг совершенно неожиданно из толпы буквально выскочил Владимир Некрасов из 4-го класса и также обратился к юбиляру с речью. Конец ее был таков: «Чем мы, Ваши воспитанники, можем вознаградить Вас за Ваше отеческое о нас попечение? Злата-серебра мы не имеем, но зато у нас нечто более ценное: любовь и глубочайшее уважение к Вам… Эти чувства не умрут в нашем сердце, пока мы будем живы». Это приветствие подействовало на юбиляра сильнее всего. Он не смог сдержать слез. Без сомнения, это был успех. Тем не менее ректором было сделано замечание, тактичное и деликатное:
– Победителей не судят, но все же, господин Некрасов, Вы должны были сообщить, раз уж Вам захотелось выступить, заранее.
«Я же боялся, – вспоминал доцент Ленинградской духовной академии Владимир Афана-
сьевич Некрасов, – что в текст моей речи вмешаются, внесут какие-нибудь изменения. Мне этого так не хотелось!»
Через 35 лет бывший олонецкий ректор стал одним из первых лиц РПЦ. Митрополит Ленинградский Григорий (Чуков) восстановил разрушенное к тому времени в России духовнобогословское образование. В 1946 году в Ленинграде были вновь открыты духовная семинария и духовная академия. Митрополит Григорий подбирал для них кадры. Он старался набрать людей, в которых был уверен. Не удивительно, что среди них были люди, знакомые ему по дореволюционному Петрозаводску. Так, был приглашен на преподавательскую работу протоиерей Иван Стефанович Козлов, бывший олонецкий епархиальный миссионер, учащийся богословских классов при Олонецкой духовной семинарии. За год до этого, в 1948 году, в здании на Обводном появился внешне ничем не примечательный учитель из школы рабочей молодежи при заводе «Марксист». Можно представить, какие чувства охватили его, когда в вестибюле учебного заведения он увидел большой образ Спасителя. Это был тот самый юноша, выступивший так неожиданно с речью на юбилее.
Как же сложилась биография Владимира Афанасьевича Некрасова? Сын сельского священника, служившего в дер. Нижняя Водлица (Водла) Олонецкой губернии, был одним из самых даровитых воспитанников Олонецкой семинарии. По ее окончании в 1913 году поступил в Петроградскую духовную академию с лучшими результатами по вступительным экзаменам. Закончил ее по первому разряду. Звание кандидата богословия получил за сочинение «Проблема жизни и смерти в художественном творчестве Льва Толстого». Владимир Некрасов был не только обширно начитан, сформирован на идеалах русской литературы XIX века, но был одаренным художником. Только на одной выставке в Петрозаводске в 1912 году было выставлено 36 его работ. В Духовной академии он – чуткий слушатель лекций профессора церковной археологии Николая Васильевича Покровского – крупнейшего авторитета в этой области. После Великой Отечественной войны в воссозданной теперь уже Ленинградской духовной академии именно Некрасов стал продолжателем его дела – преподавателем церковной археологии, собирателем церковно-археологического кабинета академии. В стенах Ленинградской духовной академии ему довелось стать преподавателем двух будущих патриархов: Приснопамятного Алексия II и ныне управляющего Русской православной церковью патриарха Кирилла.
В «Журнале московской патриархии» появлялись его статьи о ленинградских соборах: Богоявленском, Троицком. В библиотеке академии хранится рукопись подробного исследования по истории строительства Троицкого собора Александро-Невской лавры. Владимир Афанасьевич начал с того, что в качестве помощника библиотекаря, а потом заведующего библиотекой составлял картотеку книг богословского содержания, в огромном количестве поступивших из антирелигиозных фондов Публичной библиотеки. Поначалу Некрасов преподавал гомилетику в семинарии. Он жаловался, что этот курс ему приходится готовить ночами. Сорок лет нанесли богословским знаниям урон, который необходимо было срочно восполнять.
В 1917 году, после окончания Духовной академии, его призвали на военную службу и направили на ускоренные офицерские курсы в Павловское училище. Курс подошел к концу в октябрьские дни 1917 года. Первый год рабочекрестьянской революции Некрасов перебивался на случайных работах, а потом был призван в Красную армию. Служил инструктором в Нарвском резервном полку, курсантом всеобуча, был на Северо-Западном фронте. А в 1924 году после демобилизации стал на долгие годы простым учителем географии, русского языка, черчения: в Важинах, Лодейном Поле, с 1931 года – в Ленинграде в школах рабочей молодежи при больших заводах: «Красный Треугольник», «Радиокоминтерн», в ФЗУ при кожевенном заводе «Марксист». Лица, подобные Некрасову, в советской средней школе нашли нишу, где были востребованы их знание, их нравственная культура. Не случайно многие из привлеченных митрополитом Григорием в послевоенную духовную школу пришли туда из учительских. Кстати сказать, они задавали уровень советской школы того времени.
Скончался Некрасов в начале перестройки на 95-м году жизни. Он немногим пережил своего брата Петра Афанасьевича Некрасова (1895– 1984) – выпускника Олонецкой духовной семинарии 1917 года. Еще один олонецкий питомец протоиерея Николая Кирилловича Чукова стал доктором наук, физиологом, профессором и заведующим кафедрой физиологии Курского медицинского института [1; 78].
Публикуемые здесь воспоминания Владимира Афанасьевича об Олонецкой духовной семинарии были сделаны в виде заметок на клочках бумаги в глубоко преклонном возрасте. Но еще в 1949 году, 14 октября, на торжественном собрании в Ленинградской духовной академии по поводу присуждения степени доктора богословия митрополиту Ленинградскому и Новгородскому Григорию (Чукову), бывшему ректору Олонецкой духовной семинарии, прозвучал доклад доцента В. А. Некрасова, в котором также присутствовала тема воспоминаний об Олонецкой духовной семинарии [3]. Оба текста приводятся в данной публикации.
В воспоминаниях воссозданы картины, ярко запечатленные в памяти бывшего олонецкого семинариста. Сказалось и то обстоятельство, что Некрасов стал профессиональным педагогом. Строй семинарии он анализирует как педагог, отмечая достоинства и недостатки воспитательной системы.
Сейчас, когда существует ярко выраженная тенденция исключать из школьного дела задачи воспитания и оставлять чисто образовательный процесс, опыт старой русской школы, в том числе Олонецкой духовной семинарии, приобретает особую значимость.
Автор публикации выражает благодарность Александру Константиновичу Галкину (г. Санкт-Петербург) за предоставление хранившихся у него рукописных заметок Некрасова, из которых составился первый из двух помещенных здесь текстов1.
В. А. Некрасов ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ОЛОНЕЦКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ
В начале XX века наиболее значимыми приметами губернского Петрозаводска были крупный чугунолитейный завод и пять соборов с большим количеством духовенства. В городе имелся также целый ряд учебных заведений: Духовное училище, Духовная семинария, Епархиальное женское училище, Учительская семинария, педагогический женский техникум, мужская и женская гимназии и ряд начальных школ.
Наброски воспоминаний о времени моего пребывания в Олонецкой духовной семинарии (1907–1913) считаю необходимым начать с краткой характеристики двух первых ректоров – архимандритов Фаддея2 и Никодима3. Оба они были как монахи людьми бессемейными и одинокими. При этом за свои высокие личные качества и образованность пользовались большим уважением учащихся и городской общественности.
В пору моего поступления в Олонецкую духовную семинарию, то есть в августе – сентябре 1907 года, ее ректором был архимандрит Фаддей. Это был человек не от мира сего; настоящий аскет, воплощение христианского смирения, кротости и постоянного богомыслия, притом на редкость добрый и благожелательный человек4, кроме того, большой любитель произносить проповеди. Он произносил их обычно в конце обедни, с амвона, опираясь на посох. Однако содержание проповедей почти всегда носило печать аскетических поучений и было мало связано с реальной жизнью, а вследствие слабого голоса архимандрита произношение их было едва слышно и маловыразительно. Проповеди его успеха у семинаристов не имели. Кроме того, ходили слухи, что о. Фаддей отрицательно относился к бальным танцам, считая, что соприкосновения при танцах – это путь к разврату. Правда, вечера с танцами в семинарии при нем никто не отменял. Спустя год или два он был произведен в епископы и направлен викарным архиереем в Южную Россию.
Архимандрита Фаддея заменил другой ректор – архимандрит Никодим. Второй ректор был физически крепче, с голосом сильным и четкой литературной речью. Эти преимущества заставляли воспитанников выслушивать его выступления с достаточным вниманием и интересом. Он выступал обычно в семинарском зале. Говорил громко, четко, никогда не имел заранее приготовленных записей для выступления. Я хорошо запомнил один случай, когда архимандрит Никодим быстро и умело познакомил преподавателей и учащихся, собравшихся в зале семинарии, с неправильным учением какой-то секты, представители которой прибыли из-за границы в Петрозаводск. Ректор, пользуясь одной Библией, легко разбил учение сектантов о том, что на земле нет и не может быть праведников. Помню еще, что этот ректор написал литературно и живописно, прекрасным житийным языком два жития малоизвестных олонецких святых. Эти жития были помещены в еженедельном издании «Олонецкая неделя», которое основали и редактировали о. Николай Чуков и преподаватель семинарии Михаил Павлович Смирнов. И то, и другое свидетельствовало о высоком уровне богословского образования о. архимандрита.
Мне кажется, архимандрит Никодим пытался как-то духовно сблизиться с воспитанниками. Я тогда был во втором или третьем классе. Он иногда заходил в какой-нибудь класс, случалось, что и в тот, в котором я учился, обычно вечером. В эту пору воспитанники готовили уроки, или писали сочинения, или читали художественную литературу, иногда всем классом пели какую-нибудь любимую песню (например, «Хаз Булат удалой»). Ректор делал некоторые замечания, иногда шутливые, иногда деловые. Заходил он и в спальни и тоже пробовал беседовать с воспитанниками на житейские темы, но мелкие, малоинтересные нам. Настоящего духовного общения между ним и нами, мне кажется, не было; вероятно, потому, что ректор не сумел (или не хотел) найти для беседы более важных для жизни вопросов. Я имею в виду младшие классы, в одном из которых я тогда состоял. Не уверен при этом, насколько точны здесь мои воспоминания, кроме того, мне неизвестно, о чем и как беседовал ректор с учащимися старших классов. А вот успеха в духовном сближении с учащимися младших классов семинарии все-таки не было. Это, вероятно, объяснялось тем, что на нас ректор смотрел как на недоростков, с которыми трудно беседовать на серьезные темы богословского и религиозно-нравственного характера. Но были и другие причины неуспеха. Это неподготовленность к беседам, а между тем интересных материалов для них было много. Хотя бы русская художественная литература (Л. Толстой, Чехов, Лесков и др.) или произведения живописи, например картина в Братском доме; Репин; историческая литература; Русско-японская война; некоторые события войны 1812 года, столетие которой широко отмечалось, а к юбилею готовились задолго до его проведения.
Вероятно, он очень плохо знал современную ему молодежь, плохо представлял, чем жил современный ему семинарист по своему духовному и культурному уровню, как он вырос в первое десятилетие XX века.
Посещение же классов и спален учащихся, попытка сближения с ними все же свидетельствовали о живом интересе и добрых чувствах ректора Никодима к воспитанникам. Можно не сомневаться, что в области благосостояния семинарии он как глава заведения играл только положительную роль. Это же можно отнести и к его предшественнику архимандриту Фаддею.
Вскоре и архимандрит Никодим был удостоен епископского сана и также направлен куда-то на юг. Некоторое время семинария оставалась без ректора. Наконец в результате обстоятельного обсуждения в соответствующих инстанциях на должность ректора семинарии был назначен соборный протоиерей г. Петрозаводска, епархиальный наблюдатель церковно-приходских школ и школ грамоты Олонецкой епархии протоиерей Николай Кириллович Чуков.
С момента этого назначения в семинарии начали происходить значительные изменения. Безусловно, и до ректорства о. Николая Чукова жизнь семинарии не стояла на месте, постепенно происходили перемены, содействовавшие подъему ее общего благосостояния и духовному росту воспитанников.
Прежде всего, в Олонецкой духовной семинарии был достаточно удачный состав преподавателей. Большинство хорошо знали свой учебный предмет и умели заинтересовать им. Прекрасно вели занятия по истории русской литературы Костяков, Шайжин и еще один, заменивший ушедшего Костякова. По Ветхому Завету – Н. П. Громов, по математике и физике – А. К. Бурцев, по психологии – В. Мельников. По истории философии отличался эрудицией И. И. Поспелов. Значительно слабее их были Ф. А. Милотворский по греческому языку и Д. П. Ягодкин по гражданской истории. Среди преподавателей эти двое представляли старое поколение. Из молодых недостаточно владел своим предметом (основное богословие) Д. Шумов.
Почти все преподаватели при ознакомлении с заданием на следующий урок выходили за пределы учебника и добавляли что-нибудь новое, интересное. Например, Николай Петрович Громов (Ветхий Завет) умел очень интересно сопоставлять библейские сказания о сотворении мира и человека с новейшими исследованиями и теориями о происхождении материков, океанов, горных хребтов, древних обитателей на планете и т. п. Одним словом, пытался как-то примирить Библию и науку. Это был увлеченный преподаватель. Аналогично вел занятия в 4-м классе по физике Александр Кондратьевич Бурцев, у которого для этого имелись все возможности. Между прочим, в кабинете по физике была даже астрономическая труба больше метра длиной, в кото- рую можно было увидеть два спутника планеты Марс. Математика, к сожалению, прорабатывалась менее углубленно. Тот же Бурцев преподавал алгебру и тригонометрию. За недостатком времени алгебра давалась очень сжато, заучивались простейшие формулы: квадрат суммы и разности двух чисел, куб суммы и разности двух чисел. Решались простейшие тому примеры. Тригонометрия совершенно не укладывалась в наши головы. Даже лучшие ученики класса могли лишь с большим напряжением решать простейшие задачи.
Психологию в 3-м классе преподавал Мельников… Запомнилась его лекция «О происхождении жизни». В некоторых случаях он брал материал из лекций профессора Петербургской духовной академии В. Серебрянникова, а иногда давал эти лекции учащимся, у которых возникал интерес к тому или иному вопросу.
Преподаватель по Новому Завету Василий Иванович Лебедев, несмотря на многолетнюю педагогическую службу, поражал замечательной увлеченностью своим предметом. Одновременно он являлся и представителем администрации семинарии, занимая пост инспектора. У него было два помощника, добросовестные работники. Но сам Василий Иванович являл собой образец очень опытного, знающего все трудности своего положения администратора. При этом был необыкновенно добрым человеком, недаром ему присвоили прозвище «папаша». Между прочим, он мечтал стать священником, но едва ли это ему впоследствии удалось…
Некоторые из изменений в укладе семинарии в конце первого – начале второго десятилетия XX века были естественным плодом внутреннего развития, причинами других служили крупные исторические события тех лет. Учеником духовного училища я довольно часто навещал своего брата, семинариста, когда он учился в семинарии, и любил наблюдать над его товарищами. Припоминаю, что большинство воспитанников семинарии конца XIX – начала XX века отличались неким благообразием, они производили впечатление уже взрослых людей, серьезных, солидных, начитанных. Это часто были люди вежливые, хорошо одетые и умеющие вести себя в обществе с достоинством. Я знал, что многие из них имели знакомство с весьма уважаемыми в городе лицами – чиновниками губернского правления, духовной консистории, духовенством, были приняты в их семьях и семьях старой интеллигенции. Постепенно на смену старого образа семинариста пришел новый тип воспитанника семинарии с отличавшим его более широким духовным кру-гозором5. <…˃
На протяжении ряда лет, в том числе когда ректорами семинарии состояли архимандриты Фаддей и Никодим, у воспитанников наблюдался большой интерес не только к церковному, но и светскому пению. Новые произведения певче- ского искусства разучивали и с ними выступали на литературно-вокально-музыкальных вечерах, которые устраивались в семинарии. По просьбе любителей рисования в семинарии был создан рисовальный класс, руководителем которого пригласили местного художника Андрея Лукьяновича Андреевского.
Семинаристы всегда отличались любовью к пению и музыке, многие старались усовершенствоваться в игре на инструменте или пении. Эта особенность вполне соответствовала их будущему назначению – быть священниками… К сожалению, за отсутствием рояля и пианиста-учителя для обучения игре на этом великолепном инструменте приходилось ограничиваться игрой на венской гармонии с довольно сложной клавиатурой в три яруса. Некоторые семинаристы (Миша Хотеновский и Тялшинский) получили известность как замечательные мастера играть на этом музыкальном инструменте. Они овладели им без всякой посторонней помощи. Даже принято было приглашать их как хороших музыкантов на семейные вечеринки. Находились еще любители игры на фисгармонии, которая обычно находилась в помещении 4-го класса.
Все это: рисование, музыка, пение – были проявлениями самобытной художественной деятельности семинаристов.
Некоторые любители чтения художественной литературы записывались в городскую библиотеку, где находили книги, которых не было в семинарской библиотеке.
Одновременно – в противовес умственному напряжению, труду, связанному с умственными занятиями, – семинаристы активно занимались физическими упражнениями на военно-гимнастическом городке.
С тыльной стороны семинарского здания располагался очень просторный двор. Он еще не был приведен в должный вид, то есть в сад или парк, в площадку для футбола или других игр. Лишь в одном его углу виднелся гимнастический городок, устроенный обычным образом: 3 столба с крышей, с висячими под крышей канатами, шестами, кольцами и большой лестницей. Рядом – горка для взбегания, а с другой стороны – турник (деревянный), параллельные брусья. Здесь всегда толпились желающие развивать свои мышцы, силу, ловкость и смелость.
С лицевой стороны семинарского здания находился сад, овальный в плане, не очень большой, но благоустроенный и вполне удовлетворяющий семинарию. Его оградой были кустарные растения. Сад служил местом прогулок для мечтателей или юношей, наклонных к философским размышлениям.
Протоиерей Николай Чуков стал новым ректором с 1 февраля 1911 года. Благодаря своим выдающимся способностям организатора и администратора, талантливого ученого-педагога и опытного хозяйственника он сумел поставить семинарию на должную высоту во всех отношениях.
В силу многих причин протоиерей Николай Чуков оказался наиболее удачным ректором Олонецкой духовной семинарии. Он с живым интересом вникал во все стороны учебной, воспитательной и хозяйственной жизни вверенной ему семинарии. Быт воспитанников, их запросы были предметом постоянных его забот. Особое значение в деле формирования личности будущих священнослужителей о. ректор придавал живому общению. В высшей степени деликатный в обращении с сослуживцами и обслуживающим персоналом семинарии и гуманный по отношению к воспитанникам, он стремился своим собственным примером воздействовать на всех обитателей семинарии.
Он любил порядок, строгое исполнение своих обязанностей учащимися, был, когда нужно, суров, а вообще был человеком очень добрым, справедливым, прекрасным педагогом и в теории, и на практике. Недаром, будучи студентом Петербургской духовной академии, он очень интересовался педагогическими дисциплинами и серьезно изучал их.
Его первое богослужение в храме семинарии было совершено 13 февраля 1911 года. Перед богослужением о. Николай произнес вступительное слово, в котором прежде всего попросил своих сотрудников по семинарии о помощи ему и содействии его начинаниям. А в конце, обращаясь к семинаристам, сказал: «На вас лежит нравственный долг так подготовить себя здесь в духовной школе, чтобы потом во всеоружии развитого и обогащенного всеми необходимыми сведениями ума и нравственного опыта и всей молодой энергией выступить на общественное поприще и там всеми мерами, пламенным горением духа, упорно и напряженно, шаг за шагом содействовать поднятию в обществе христианского настроения, росту христианской идеи и усовершенствованию христианского строя в той сфере, какая каждому выпадет на долю».
Вступительная речь, ясная по содержанию, проникнутая твердым убеждением в непреложной истине ее основных положений и вдохновенная по силе внутреннего чувства, произвела огромное впечатление, особенно на семинаристов старших классов. Некоторые из старших воспитанников уже знали в лицо отца Николая, видели и слышали его на богослужениях в соборе, имея определенное и при этом положительное о нем мнение. С ним как епархиальным наблюдателем по церковно-приходским школам приходилось встречаться их старшим братьям и сестрам6. Доброе мнение составлялось и из иных источников. Нам было известно, что о. Николай был членом разных обществ – благотворительных и просветительских. На многочисленных съездах, конференциях, вообще, на всевозможных собраниях устанавливалась практика почти всегда избирать председателем или секретарем именно его. Это свидетельствовало о его широкой популярности в Петрозаводске и вообще в губернии. Ректор имел репутацию как человек умный, хорошо образованный, отлично знающий школьное дело, энергичный, властный и влиятельный.
Большое значение имело то обстоятельство, что он был человек семейный, имел в то время семью из 6 человек: кроме родителей – три мальчика и одна девочка. В общем, обычная русская семья. Дети не чуждались общения с семинаристами. Особенно охотно бывала в их обществе дочка ректора Анюта, девочка лет 5–6, очень живая, бойкая, собою миловидная. Она невольно вызывала мысль о пленительном образе Наташи Ростовой из романа «Война и мир». Анюта очень любила так называемые гигантские шаги, любила кружиться на канате вокруг столба. Конечно, это делалось только при помощи воспитанников семинарии, которые с удовольствием ее «разносили» и сами также чрезвычайно увлекались этим аттракционом. Они поднимали ее на большую высоту, так что дух захватывало, а она ничего не боялась и испытывала лишь восторг.
Сам Николай Кириллович Чуков после окончания семинарии в Петрозаводске в течение двух лет был педагогом-надзирателем в Петрозаводском духовном училище. Я, проживши за четыре года ученья в том же Духовном училище в общежитии, очень хорошо понимаю, что служить надзирателем в этом общежитии – прекрасная педагогическая школа, которая у Николая Чукова дополнилась должностью епархиального наблюдателя. Отец Николай мог наблюдать немало подростков и юношей самого разнообразного темперамента, характера, разных степеней духовного и физического развития, с чем едва ли приходилось иметь дело архимандритам Фаддею и Никодиму. Он имел возможность изучить различные психологические типы молодых людей, чтобы в дальнейшем к каждому типу найти особый подход. А самый правильный подход к молодежи, учащейся в семинарии, – это осознание ее молодости, выявление ее важнейших возрастных интересов и потребностей и содействие всестороннему росту, подъему, развитию. Наиболее важные в жизни подростка и юноши потребности – это потребность в движении и, кроме того, это потребность наблюдать, видеть, слышать окружающий мир, выражать свои настроения и чувства и запоминать воспринятое. Очень важно при этом, чтобы воспитатель хорошо помнил свою молодость, юношеские года и юношеские интересы, увлечения, мечты, ошибки, духовные взлеты и т. д.
Если первые два ректора были далеки от интересов семинаристов, то о. Николай в этом отношении был другим и не чуждался общения с ними, любил и понимал молодость и сам когда-то, вероятно, был похож на свою Анюту. Понимая, что для юноши необходимо движение, гим- настика, он поощрял разнообразные приспособления для нее, хлопотал об устройстве во дворе семинарии военного городка наподобие тех, которые были в военной части. Мы узнали, что в своем детстве он очень любил игру в солдаты, организовывал полки, армии, командовал ими и награждал наиболее ловких, умных и смелых орденами. Он знал наперечет все военные ордена и то, за что каждый из них дается.
Пение, музыку, живопись, рисование он находил важным образовательным и воспитательным средством, вводившим в жизнь подростков эстетическое чувство, мир красоты. По всему своему складу он не мог отрицать танца, подобно о. Фаддею. Кстати сказать, у нас, учащихся семинарии, даже установилась традиция заниматься практическим изучением наиболее принятых в то время танцев (краковяка, падекатра, вальса, польки). Эта практика обычно проходила после ужина и до молитвы, то есть с 9,5 до 10 часов вечера, после чего отходили ко сну. Отец ректор, вероятно, знал о нашем увлечении танцами, но не запрещал их.
Сам о. Николай очень любил церковное и светское пение, если оно удовлетворяло его художественному вкусу. Отчасти этому содействовало то обстоятельство, что его многоуважаемая супруга Валентина Дмитриевна получила музыкальное образование и была хорошей пианисткой, а один из его сыновей, Александр, будущий оперный певец, обладал хорошим баритоном.
Отец Николай Кириллович Чуков поощрял сближение семинаристов с обществом, по его твердому убеждению, будущий пастырь должен был знать паству, ее интересы и потребности. Он старался усилить в старших воспитанниках элементы «светскости». Внешний вид семинаристов, особенно старших классов, был вполне приличный. Они ходили либо в пиджачной паре, либо в сюртуках, либо в установленной к этому времени форме, умело пользуясь манишками, манжетами и галстуками, всем, чем полагается светскому человеку; знали правила вежливости и умели применять их.
По-видимому, ректор считал нужным понять психологию и образ мыслей семинаристов, имея в виду, чтобы те интересы их, которые не соответствуют духу Духовной школы, как-то отвести в сторону, постепенно выдвигая на первое место интересы, содействующие росту добрых задатков и углублению религиозной настроенности. Чтобы деятельность ректора в качестве доброго наставника была особенно плодотворной, конечно, было бы необходимо, чтобы она основывалась на конкретном, жизненном материале, которым так богаты произведения наших (Толстой, Чехов, Лесков, Достоевский) и иностранных (Диккенс, Гюго и др.) писателей. При этом хорошо припомнить самим воспитанникам случаи из собственного опыта и опыта исторического. К сожалению, эти приемы в семинарии так и не были использованы. По крайней мере, в том классе, в котором я учился. Между тем воспитанники семинарии были достаточно начитаны для того, чтобы участвовать в разговорах на литературные и исторические темы. Вспоминаю, как мы, еще ученики IV класса Петрозаводского духовного училища, знакомились под руководством смотрителя училища Василия Николаевича Ильинского с сочинениями Жуковского, Пушкина, Гоголя и даже с отрывками из иранского эпоса.
В своем вступительном слове о. Николай обратился к своим сотрудникам с просьбой о помощи и содействии ему в его начинаниях. Какие же это были начинания?
Отец ректор стремился к тому, чтобы активизировать учебные занятия, сделать их более содержательными и полезными, чтобы учащиеся не ограничивались только слушанием и запоминанием учебного материала, но чтобы и сами в какой-то степени участвовали в его разработке. Например, предложить одному из них или небольшой группе из 2–3 человек разработать небольшой доклад на какую-нибудь интересную и важную тему. Я помню, как преподаватель истории философии Иван Иванович Поспелов предложил Александру Никонову, первому ученику по успехам в классе, разработать и прочитать на уроке доклад о Канте. Подробностей я не знаю, но помню, что доклад получился удачный, заинтересовал одноклассников Никонова. Мне кажется, что здесь дело не обошлось без о. ректора, который мог подать мысль о подобных докладах на Совете семинарии. Было и другое очень важное начинание нового ректора. При о. Николае для учащихся 5–6-х классов семинарии была введена практика произнесения проповедей (в дополнение к гомилетике) в семинарском храме, в церкви при архиерейском доме и в кладбищенском храме (в случае похорон лиц, имевших отношение к семинарии). Практика проповедничества была очень полезна выпускникам духовных семинарий – будущим пастырям или учителям начальных школ. Проповедь на любую тему может дать богатейший материал для религиознонравственного назидания и вместе с тем служить средством для развития логики, способности к самостоятельному исследованию и широким обобщениям. В 1912 году, когда вся страна отметила столетие победы над французским императором Наполеоном I, по указанию о. ректора темы проповедей в семинарском храме были согласованы с юбилейной датой. Воспитанник 6-го класса Иван Островский с воодушевлением произнес блестящую проповедь на текст «Взявший меч от меча и погибнет». Я свою проповедь на день св. Архистратига Михаила также постарался связать с победоносным окончанием войны 1812 года.
Эти проповеди явились одним из подготовительных мероприятий к проведению в стенах семинарии в честь и память незабываемого 1812
года года русской славы. Празднество было хорошо подготовлено и торжественно проведено. Зал семинарии был оформлен элементами художественных декораций силами рисовального класса под руководством его руководителя художника Андреевского. Многочисленные гости, приглашенные <на> праздник, видели перед собой портреты императора Александра I и М. И. Кутузова – главных исторических деятелей 1812 года, стоявших во главе русского народа, уничтожившего «великую армию» Наполеона, заставивших его обратиться в постыдное бегство из пределов России.
В том же 1910/1911 учебном году, когда я был учеником 4-го класса, проходило чествование инспектора семинарии Василия Ивановича Лебедева по случаю 25-летнего стажа его педагогической службы. В зале семинарии было устроено собрание всех сотрудников юбиляра, присутствовали учащиеся, служащие семинарии и просто знакомые юбиляра. Выступали с речами: новый ректор, протоиерей Николай Чуков, многие преподаватели и представители учащихся из 6-го выпускного класса. В речах была прекрасно охарактеризована личность Лебедева как человека выдающегося по своему гуманному, чисто отеческому отношению к учащимся и по неустанной его заботливости об их нравственном воспитании в строго христианском духе. Юбиляр был очень растроган. Но вдруг совершенно неожиданно для всех из людской массы, заполнявшей зал, выскочил я и также обратился к Василию Ивановичу с речью. Приведу ее конец: «Чем же мы, Ваши воспитанники, можем вознаградить Вас, дорогой Василий Иванович, за Ваше чисто отеческое о нас попечение? Злата и серебра мы не имеем, но зато у нас есть нечто более ценное. Это наша искренняя, живая, настоящая сыновняя любовь и глубочайшее уважение к Вам. Эти чувства никогда не умрут в нашем сердце, пока мы будем живы. Дай Вам Бог крепкого здоровья и библейского долголетия! Многая и многая Вам лета!» Почтенный юбиляр меня крепко обнял и горячо поцеловал. Мое приветствие на него подействовало, по-моему, наиболее сильным образом. Он не мог сдержать слез. Но ректор все же за мою речь сделал мне замечание, правда, очень тактичное и деликатное.
– Победителей не судят, как говорилось классиками древности, но все же, господин Некрасов, Вы должны были, раз уж вам захотелось произнести юбиляру речь, сообщить об этом мне заранее. Ведь чествование Василия Ивановича проходило по определенному плану, который был разработан своевременно. Отвечаю за этот план и его осуществление я, как ректор семинарии, как ее глава, а Вы этот план нарушаете.
Я был смущен, но извинился перед отцом ректором и обещал впредь никогда не поступать самовольно. Мое решение никого не посвящать в содержание своей речи до дня юбилея было вызвано боязнью, что в мою речь могут внести нежелательные для меня исправления. В конечном итоге, все обошлось хорошо.
Я уже упоминал о рисовальном классе – одном из важных факторов духовного роста семинаристов. Руководителем рисовального класса состоял художник Андрей Лукьянович Андреевский, ученик художника Ю. Клевера7 (пейзажиста). Занятия проходили в определенные дни и часы в помещении Образцовой школы недалеко от здания семинарии. Ректор о. Николай поощрял занятия в рисовальном классе. По рекомендации Андрея Лукьяновича для рисовального класса были выписаны из Петербурга гипсовые фигуры, необходимые для рисования с натуры. Это были детали человеческого тела: глаз, ухо и необыкновенно удачный слепок, несколько больше натуральной величины, головы Антиноя – любимца императора Адриана. Этот образ считается идеалом юношеской красоты. Были также слепки листка, ветки. Кроме того, Андрей Лукьянович где-то раздобыл ряд репродукций с мужских портретов (в технике гравюры), женских головок и фигур. Но делались также и зарисовки из окружающей жизни. Рисование с обнаженной натуры в рисовальном классе не практиковало сь. Некоторые из занимавшихся в рисовальном классе проявляли большое упорство, отдавали этим занятиям все свои силы.
В 6-м классе я получил разрешение по воскресным дням на целый день после церковной службы уходить к Андрею Лукьяновичу. Под его руководством я принимал участие в работе над изображениями Спасителя, Бога Отца Вседержителя, Божией Матери, апостолов, священных лиц и священных событий для иконостасов скромных сельских церквей. Заказы эти не были слишком сложны, а самые образа для иконостаса не были слишком крупными, поэтому работы по живописи можно было выполнять в довольно скромной квартире Андрея Лукьяновича. Было положено, чтобы я приходил к нему в воскресные и праздничные дни сразу по сле бого служения и обедал у него. Должен заметить, что супруга Андрея Лукьяновича была прекрасной хозяйкой и замечательным мастером по изготовлению разных блюд, так что, отказываясь от семинарского обеда, я ничего не терял. Моя работа состояла в том, чтобы, пользуясь некоторыми пособиями (рисунками), построить углем образ данного священного лика в основных чертах, передать правильные пропорции человеческого тела, а также сделать подмалевок (первоначальное изображение в красках), а затем иногда и продолжить работу дальше, следуя указаниям своего учителя. Окончательная отделка принадлежала учителю. Мое участие в работах над иконостасом принесло мне большую пользу, помогло мне развернуть мои способности к рисованию карандашом и живописанию и обогатило мое пони- мание духовного мира, уяснение идеи святости. Мне даже удалось написать во время летних каникул (при переходе в 6-й класс) две иконы примерно в метр высотой: образы св. кн. Владимира. Они были помещены в семинарии в верхней части стены, отделяющей семинарскую церковь от продольного коридора. Издали они производили неплохое впечатление. Отец ректор нашел возможным поместить их в данном месте. Некоторые мои рисунки и опыты живописи масляными красками произвели на о. ректора (о. Николая) довольно приятное впечатление, и у него возникла мысль поручить мне написать несколько икон для семинарского храма.
Из факторов, которые формировали семинаристов, важнейшими были события в самой семинарии: учебные занятия, педагогическое воздействие администрации, инспектуры и преподавательского персонала.
Сюда нужно отнести и литературно-вокальномузыкальные вечера в семинарии, иногда под духовой оркестр. Обычно они проходили 2–3 раза в год. К ним готовились очень тщательно8.
В семинарии имелся хороший церковный хор на 2 клироса. Подготовка к церковной службе, особенно праздничной (спевки, чтение паремий), проходила под руководством опытного преподавателя пения Александра Петровича Максимова. На уроках пения он иногда разучивал с учащимися и светские произведения: отрывки из опер, например, из оперы «Демон». Вновь возвращаюсь к тому, о чем уже упоминал: семинаристов особенно отличала любовь к пению, церковному и светскому. Пели иногда и всем классом, после уроков.
«Внутренние факторы» соседствовали с внешними влияниями. Такими, как посещение кафедрального собора, когда в нем совершались архиерейские богослужения; чтение Евангелия Скобелевым. Свой след оставляли «царские дни». После обедни в семинарской церкви и обеда многие семинаристы шли в такие дни к кафедральному собору, около которого возвышался памятник императору Александру II. Вблизи выстраивалась прекрасно вымуштрованная рота солдат во главе с офицерами. Вышедший из собора губернатор поздравлял участников парада с праздником, в ответ раздавался мощный и дружный ответ. После совершался торжественный марш-парад вокруг собора и памятника. Нам это очень нравилось.
Много для нас значили (в частности, для расширения кругозора в области международных отношений) события Русско-японской войны 1904–1905 годов. Будучи учеником духовного училища, «духовником», я ходил в семинарию к брату Мите. В актовом зале семинарии огромный стол был завален телеграммами, разными газетами и иллюстрированными журналами с сообщениями о ходе войны. Семинаристы их систематически прочитывали. Кроме того, все они приняли участие в крупной патриотической демонстрации по случаю начала войны, в которой приняли участие разные слои городского населения, в том числе и учащиеся учебных заведений. Она проходила под мощные звуки духового оркестра, исполнявшего национальный гимн «Боже царя храни», под оглушительное почти непрерывное «ура!». Это был настоящий взрыв патриотических чувств.
Вспоминаются прогулки на Древлянку, архиерейскую дачу; также на пристань «на пробу». Зимой чугунолитейный завод совершал пробные выстрелы из новой пушки. На льду Онежского озера устраивалось сооружение из деревянных брусьев, которое служило для них мишенью. Семинаристы неизменно присутствовали на этом событии.
Среди событий, которые наполняли нашу жизнь, большое место занимали посещения Братского дома. Главное его помещение – обширный зал прямоугольной формы – был украшен огромной картиной в технике масляной живописи на евангельский сюжет. Она была написана монахом Лукой с какой-то немецкой гравюры. Картина покрывала всю торцовую стену. Сюжетом служила проповедь Иисуса Христа на Генисаретском озере. Колорит картины был прекрасен. Он ослеплял сиянием ярких красок – синих и светлоголубых, розовых, красных, желтых, зеленых на легких тканях, которые облекали фигуры многочисленных слушателей Спасителя, старых и молодых, мужчин и прекрасных женщин, дети которых играли на берегу озера. Все они составляли живописную группу, позади которой возвышались деревья с пышной листвой. Христос стоял в лодке у берега. Не буду говорить о некоторых недостатках картины. Они отступали перед сильным незабываемым впечатлением.
В этом зале устраивались разнообразные собрания и съезды представителей всевозможных общественных организаций: духовенства, школьных работников и других. Здесь проходили заседания Олонецкого отделения Карельского православного братства. Здесь устраивались религиозно-нравственные чтения и концерты – духовные и светские; иногда выступали представители местной интеллигенции с лекциями на разные темы и с сообщениями о современных событиях. Запомнилась лекция художника А. Лукьянова «О значении рисования и живописи в системе среднего образования». Таким, например, было и выступление помощника инспектора семинарии П. П. Мегорского, прибывшего из города Дальнего (рядом с Порт-Артуром) и рассказавшего о начале Русско-японской войны в январе 1904 года и гибели адмирала Макарова. Многие семинаристы и даже ученики расположенного почти рядом общежития Духовного училища любили посещать это место, где можно было послушать, увидеть и узнать много интересного и полезного. Братский дом был в то время своего рода клубом. Боль- шим событием были для нас выступления здесь в течение нескольких дней 1911 года знаменитого в то время хора Агренева-Славянского. Вероятно, именно у семинаристов этот хор и вызывал наибольший интерес. Хористы были одеты в особые старинные костюмы из разноцветных тканей. Особенно поражали нас мощные басы. Они придавали своим умелым fortissimo какую-то необыкновенную силу песням, из которых некоторые были нам знакомы, но в исполнении их хором вызывали у нас настоящий восторг. Нам больше всего нравилась песня «Хаз Булат удалой, бедна сакля твоя…». Эта песня была сразу же включена в наш репертуар и стала у нас одной из самых любимых.
Не сколько учащихся из старших классов семинарии, обладавших красивыми и сильными голосами (тенорами и басами), были приглашены в состав архиерейского хора и участвовали иногда в церковных концертах в Братском доме.
Большим недостатком в области культурной жизни Петрозаводска было отсутствие театра. Лишь только, кажется, в десятых годах мы увидели на ул. Пушкина довольно крупное деревянное здание с двумя ярусами окон, очень простое, похожее на обычный жилой дом. Но внутри оно было приспособлено для театральных представлений. Это был театр. Прямо против сцены устроены хоры. Нам, уже воспитанникам 5-го и 6-го классов, удалось все-таки побывать в этом театре 2–3 раза. Видели мы пьесу «Велизарий» (древний византийский полководец) и еще что-то, близкое к современности. Играла, кажется, какая-то приезжая труппа. Я был особенно поражен прекрасными, живописными декорациями, которые отлично дополняли игру актеров и помогали глубже почувствовать содержание пьесы.
Тогда же в городе появилось кино. Это поразительное чудо современной техники, дающее возможность увидеть весь мир, сидя на стуле в кинотеатре. Нечего и говорить, какое потрясающее впечатление оно производило на нас. Мы старались не пропускать ни одного сеанса в кинотеатре. Нам разрешали ходить в кино, лишь бы не страдал учебный процесс.
Большую заинтересованность у семинаристов, особенно младших классов, вызвал приезд в Петрозаводск бродячего цирка. Цирк прибыл в Петрозаводск около того же времени, то есть в 1908–1909 годах.
Он имел вид огромного островерхого шатра с широким основанием. Вместительный внутри, тем не менее каждое представление он был переполнен. Владельцем цирка был некто Лапиа-до, как будто итальянец, силач лет 30–40. Он же был главным артистом цирка, выступавшим с упражнениями с гирями и штангой. С гимнастическими номерами выступали мальчики. Мы, ученики младших классов, были от них в восхищении: везде, на улице и в классе, пытались повторять за ними, и кое-что нам удавалось.
В семинарии сразу же стало наблюдаться оживление гимнастики и других видов физических упражнений: гигантские шаги, городки. Один вид Лапиадо, его могучие мускулы и видимая легко сть его упражнений с гирями и штангой невольно вызывали даже у пожилых людей мысль о пользе физических упражнений для развития силы и укрепления здоровья. Что тогда говорить о подростках и юношах из семинарии?
Ярмарка, расположенная вблизи от Гостиного двора, вокруг которого мы после обеда обычно прогуливались, также привлекала наше внимание. Мы любили бродить среди ларьков и телег, заваленных разными игрушками, корытами и другими изделиями местных мастеров, и с удовольствием ели сушеную репу, это северное лакомство, которым угощали знакомых девушек.
По ярмарке ходил пожилой мужчина в овчинном полушубке с каким-то ящиком на подножках. Это был бывший солдат, воевавший на Японской войне. Его ящик с ручкой, которую солдат вращал рукой, представлял собой нечто вроде самодельного эпидиаскопа; в небольшое круглое увеличительное стекло можно было увидеть ряд изображений. Они были нумерованы и наклеены на особый рулон. Это были моменты Русско-японской войны 1904–1905 годов, портреты главных деятелей войны с той и другой стороны.
Зимой некоторые семинаристы, у которых имелись коньки, катались за небольшую плату на общественном катке, который устраивался в так называемой «Яме», широкой впадине в середине города, по которой протекала речка Ло-сосинка.
В воскресные и праздничные дни можно было навестить своих сестер, учившихся в Епархиальном училище. Для посетителей устраивался прием в особом зале в присутствии воспитательницы, которая вызывала епархиалку по просьбе посетителей. На такую встречу отводился один час.
Были нравственные изъяны в семинарской среде? Конечно, были, хотя они и не были массовым явлением. К вредным интересам учащейся молодежи следует отнести игру в карты (на деньги), порнографические открытки, некоторые могли волочиться за женщинами с целью разврата. Что еще? Одеваться модно, не по средствам; не интересоваться учебой, содержанием предмета – лишь бы получить удовлетворительный балл; с увлечением читать низкопробную литературу, разжигающую низкие инстинкты; замыкаться в себе, чуждаться товарищей, чрезмерно интересоваться едой, особенно сладким; пить спиртное. Появились новые веяния: стенгазеты в семинарии, а также общественное чтение и обсуждение в уединенной комнате сочинений Льва Толстого, но не художественных произведений, а разной его публицистики. Я ходил туда один лишь раз, мне не понравилось.
В. А. Некрасов
ВОСПОМИНАНИЯ О РЕКТОРЕ ОЛОНЕЦКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ ПРОТОИЕРЕЕ Н. К. ЧУКОВЕ
(из доклада на Торжественном открытии заседания Совета Ленинградской православной академии по поводу присуждения ученой степени доктора богословия высокопреосвященнейшему Григорию, митрополиту Ленинградскому и Новгородскому)
С 1 февраля 1911 г. о. протоиерей Чуков – ректор Олонецкой духовной семинарии и одновременно – по традиции председатель Епархиального училищного совета.
Ему же пришлось взять на себя труд наблюдения и приведения в порядок епархиального женского училища, в котором создалось очень запутанное положение, как в отношении учебновоспитательной части, так и в хозяйственном отношении, а также спустя некоторое время пришлось взять на себя вместе с преподавателем Духовной семинарии М. П. Смирновым издание и редактирование еженедельного епархиального органа «Олонецкая неделя».
Но главное внимание о. ректора, естественно, сосредоточилось на семинарии, которая в тот момент, как никогда, нуждалась в твердом порядке и умелом руководстве.
Новый ректор начал энергично наводить порядок и властно руководить.
Мы видим здесь в его работе те же отличительные черты, какие характеризовали предыдущую деятельность о. Николая: основательное изучение своего дела, творческую инициативу, преодоление шаблона, личный глаз во всем, укрепление материальной базы, уменье разыскать для этого средства, рациональную организацию всего уклада семинарской жизни, решительную перестройку учебно-воспитательного процесса с требованиями современной тому моменту педагогической науки.
Во всем наблюдается свойственная о. ректору широта взглядов на воспитание и образование, чувство нового, умение идти в ногу с жизнью, способность видеть вперед, готовность отдать всего себя любимому делу.
О. ректор следит за выполнением программ, осуществляет методическое руководство, борется с формализмом и педантизмом некоторых преподавателей, сам ведет Св. Писание Нового Завета, а в случае необходимости и другие предметы, ликвидирует дефицит в семинарском хозяйстве, производит капитальный ремонт семинарского здания в соответствии с требованиями тогдашней местной техники и школьной гигиены, в результате чего здание становится лучшим в городе во всех отношениях.
В семинарии налаживается твердая дисциплина, учащиеся и учащие приучаются к точности и аккуратности в проведении режима дня.
Серьезное внимание обращает новый ректор на внешний облик и внешнее поведение уча- щихся, требует опрятности в костюме и подтягивает в отношении манер и уменья обращаться в обществе, сам лично подавая в этом отношении, как и во всем другом, личный пример.
Для повышения общего культурного уровня учащихся и сближения их с обществом в семинарии несколько раз в год устраиваются литературно-вокально-музыкальные вечера с танцами под духовой оркестр.
Программа вечеров была глубоко продуманной. Организация вечеров проводилась на основах широкой самодеятельности учащихся: особая выборная комиссия разрабатывала программу, устраивала буфет на добровольные взносы учащихся, нанимала оркестр и разрешала все другие вопросы, связанные с вечером.
Нужно было видеть, какое деятельное участие в устройстве подобных вечеров принимал сам о. ректор.
Он лично присутствовал на репетициях, делал указания, как исполнять тот или другой номер программы, а его жена, незабвенной памяти Валентина Дмитриевна, обаятельная личность и музыкально образованный человек, при всей своей занятости по семье была у нас постоянным аккомпаниатором.
Благодаря тщательной подготовке наши вечера имели большой успех в городе, привлекая внимание всех слоев петрозаводского общества, вплоть до архиерея и губернатора, и очень подтягивая учащихся.
Той же цели – расширению духовного кругозора, приобретению специальных навыков и сближению с обществом – служили и организованные при семинарии рисовальный и музыкальный классы, а также оркестры – духовой и струнный.
О. ректор, как видно, считал полезным предоставлять широкую свободу самодеятельности учащихся, лишь бы она была употреблена на развитие добрых задатков – к науке или искусству, – заложенных в человеке.
Разрешите несколько остановиться на рисовальном классе, который я с увлечением посещал на протяжении всей семинарской жизни и который мне поэтому особенно близок.
Рисовальный класс существовал и до этого, но теперь он был поставлен в более благоприятные условия и лучше снабжен всем необходимым.
Преподавание рисования, имея конечной целью подготовку грамотных иконописцев, не носило узкого, специально иконописного характера, но поставлено было широко – на академических началах: начинающие художники знакомились по альбомам с лучшими образцами мировой живописи – религиозной и светской; с академическими приемами рисования и живописи, изучали и писали натуру, знакомились с технологией производства и таким образом приобретали все необходимые для грамотного иконописца знания и навыки.
Ежегодно устраивались имевшие большой успех в городе выставки работ учащихся. Мно- гие экспонаты с выставок покупались посетителями, и это служило дополнительным стимулом для занятия живописью. В дни особо крупных праздников общественно-политического характера актовый зал семинарии оформлялся силами рисовального класса.
Рисование в глазах о. ректора имело важное значение: он делал иногда заказы на выполнение некоторых икон для семинарского храма.
Однажды о. ректор пригласил меня к себе, чтобы поручить мне написать образ св. ап. Павла, замечательная личность которого тогда, как и о. ректора, так и меня, очень интересовала и привлекала к себе, в частности, как объект для художественного воплощения.
О. ректор подробно и обстоятельно изложил свой взгляд на изображение ап. Павла, зачитал некоторые материалы по этому вопросу и таким образом дал мне основные руководящие указания. К сожалению, ввиду приближения выпускных экзаменов этот наш общий замысел остался неосуществленным.
Элементы «светскости», сознательно допускаемые о. ректором в целях сближения будущих пастырей церкви с обществом, не могли помешать воспитанию в учащихся религиознонравственного настроения, о чем главным образом и в первую очередь заботился о. ректор.
Была на высоту поднята церковная дисциплина, налажено аккуратное посещение богослужений, благоговейное поведение учащихся за церковной службой. Была усилена воспитательная работа, для чего был учрежден институт классных воспитателей, для которых составлена инструкция с очень ценными педагогическими установками, ничуть не устаревшими и до сих пор.
Придавая огромное воспитательное значение личному примеру, о . ректор являл собой яркий образец истового и благолепного совершения богослужения. Было видно и чувствовалось, что он не просто служил, но переживал богослужения. Особенно ярко это ощущалось на необычайно выразительных службах страстной седмицы и Пасхи. Глубокое религиозное чувство, воодушевленное чтение канона и Евангелий производили сильное впечатление, заражали молитвенным настроением и привлекали в семинарскую церковь много посторонней публики, в том числе губернатора с семьей. Я никогда не забуду вдохновенного чтения о. ректором замечательного слова св. Иоанна Златоуста за пасхальной утреней. Никогда ни раньше, ни после этого в своей жизни мне не приходилось слышать такого волнующего, вызывающего дрожь в теле, проникновенного чтения, с такой силой передающего пафос победы Христа над смертью, пафос торжества спасения человека над темными силами ада.
В результате всех мероприятий учебновоспитательного характера уровень необходимых знаний, общее культурное и моральное состояние учащихся семинарии были подняты на небывалую дотоле высоту, что и было засвидетельствовано в отчете ревизора Св. Синода П. Ф. Полянского, впоследствии митрополита Петра, ме- стоблюстителя патриаршего престола, обследовавшего Олонецкую семинарию в 1915 году.
В 1918 году семинария была закрыта, и о . ректор отбыл в Петроград…
1949 год
Список литературы В. А. Некрасов и его воспоминания об Олонецкой духовной семинарии
- Рукопись с воспоминаниями была передана А. К. Галкину с правом последующей публикации сыном Владимира Афанасьевича Некрасова -Б. В. Некрасовым.
- Фаддей (Успенский Иван Васильевич, 1872-1942), ректор Олонецкой духовной семинарии с 8 января 1903 года. Хиро-тонисан во епископа Владимиро-Волынского 21 декабря 1908 года.
- Никодим (Кононов Александр Михайлович, 1871-1921), ректор Олонецкой духовной семинарии с 17(19) марта 1909 года. В 1911 году, 9 января, хиротонисан во епископа Рыльского, впоследствии епископ Белгородский.
- Примером тому может служить эпизод с воспитанником Владимиром Савойским, окончившим Олонецкую духовную семинарию в 1905 году. Он учился в 5-м классе, когда семья потеряла отца и осталась без средств к существованию. Юноша решил выйти из семинарии. Впоследствии протоиерей Владимир Савойский писал о себе: «Ректор [архимандрит Фаддей] отговаривал. Я обратился с той же просьбой к епископу Анастасию и просил назначить куда-нибудь псаломщиком. Епископ отказал в назначении и велел окончить курс в Семинарии, а семье, сказал он, Бог поможет. Ректор нашел мне переписку и переплет книг, и благодаря этому я учился и помогал семье…»//Архив Санкт-Петербургской епархии. Ф. 1. Оп. 3(2). Д. 273. Л. 16.
- В набросках воспоминаний тема не получила развития.
- Мои сестры-учительницы каждый (или почти каждый) год учились в летние каникулы на курсах усовершенствования, организуемых о. Николаем Чуковым.
- Клевер Юлий (1850, Дерпт -1924, Ленинград) -русский художник-пейзажист, картины которого ценились императорской семьей и пользовались известностью в 70-90-е годы XIX века.
- ниже воспоминания из доклада В. А. Некрасова, прочитанного в 1949 году на чествовании митрополита Григория (Чукова).
- Дворянский календарь. Справочная родословная книга российского дворянства. Тетрадь 11. СПб., 2003.
- Сорокин В. Прот. Владимир Афанасьевич Некрасов [Некролог]//Журнал Московской патриархии. 1987. № 11. С. 44-45.
- Торжественное открытие заседания Совета Ленинградской православной академии по поводу присуждения ученой степени доктора богословия высокопреосвященнейшему Григорию, митрополиту Ленинградскому и Новгородскому. Л., 1949//Машинопись в библиотеке СПбДА.