В одной макроэкономической лодке
Автор: Улюкаев Алексей
Журнал: Прямые инвестиции @pryamyye-investitsii
Рубрика: Ученый совет. Научный диспут
Статья в выпуске: 2 (130), 2013 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/142170884
IDR: 142170884
Текст статьи В одной макроэкономической лодке
ИТАР-ТАСС
«Не доедим, но вывезем» Что происходит в глобальной экономике? Говорят — кризис. А что такое кризис? Это результат предшествующего развития, которое казалось очень успешным. Это результат накопления дисбалансов. Про глобальные дисбалансы обычно говорят, что это дисбаланс между накоплением на одном полюсе потребления и сбережений — на другом. Откуда взялся этот дисбаланс? Есть регионы с большой скоростью развития, есть — с меньшей. Как мне кажется, корень проблемы — в феномене догоняющего развития. Государства, которые в течение длительного времени оставались в категории раз-
Алексей
УЛЮКАЕВ,
вивающихся, — восприняли вызов и стали развиваться ускоренными темпами. За счет чего? Не за счет внутрен- первый заместитель
него спроса, потому что он ограничен, и не за счет инве-
Председателя Банка России
стиционного, потому что нет инвестиционных проектов и ресурсов. Единственный источник быстрого развития — чистый экспорт, массированный рост положительного сальдо торгового баланса.
Это известно из нашей истории — в 20-х годах прошлого века возник широкомасштабный экспорт под лозунгом «не доедим, но вывезем». Что означало ориентацию не на внутренний рынок, а на глобальный спрос, чистый экспорт. Мы это видели в большинстве регионов догоняющего развития. А поэтому в странах развитых экономик наблюдалось ускоренное развитие потребления, которое также опирается на дезинфляционные тенденции, обусловленные низкими издержками производ- ства в странах быстрого развития. А в странах быстрого развития — большие сбережения, высокая норма сбережений и необходимость инвестирования. Отсюда возникают мощные трансграничные капиталопотоки. Происходит ускорение импорта, экспорта капитала.
Трансграничный анализ
Хочу коснуться темы трансграничного движения капитала. Во многом, конечно, она политизирована, идеологизирована. Мы очень сильно ориентированы на цифру чистого оттока или притока частного иностранного капитала. Показатель говорит о многом и ни о чем. Как любой интегральный коэффициент, он слишком сложен для того, чтобы каждый раз использовать его для объяснения нашей экономической действительности. Я бы предпочел использовать термины «экспорт капитала», «импорт капитала». Почему же мы так рады, когда растет товарооборот, когда увеличивается экспорт товара, и так негодуем, когда нарастает экспорт капитала? Есть простое политическое объяснение. Экспорт товара — это создание новых рабочих мест в стране, увеличение налоговой базы и, значит, увеличение благосостояния. Экспорт капитала — это рост благосостояния в иных странах, что ни в коем случае не входит в задачи политической элиты страны. Это понятно как идеология, как политика, но как экономический механизм — все не так просто.
За категорией трансграничного движения капитала стоят совершенно разные экономические содержательные понятия. Прямые иностранные инвестиции отражают качество институтов страны, ее инвестиционный климат. Портфельные иностранные инвестиции — прямая производная от настроения глобальных инвесторов. И что бы вы ни делали в своей стране, если отсутствует аппетит к риску у глобальных инвесторов — у вас будет отток капитала.
И наконец, движение капитала в сфере кредитов и займов — прямое следствие двух простых инструментов, которые во многом находятся в ведении ЦБ. Это дифференциал процентных ставок: чем он выше, тем значительнее стимул для притока капитала. И это курсовая политика: чем она более предсказуема, тем больше оснований для того, чтобы выставить бизнес-стратегию для фиксирования прибыли при входе на денежный рынок.
Все перечисленное — разные обстоятельства, разная «природа», поэтому невозможно строить прогноз трансграничного движения капитала. Вот текущий счет платежного баланса мы определяем, это — счетная позиция. А капитальный счет мы можем предсказывать только гипотетически. У нас всегда бывают дискуссии: какая связь существует между притоком и оттоком капитала и интегральным показателем чистого оттока частного иностранного капитала и конъюнктурой мировых рынков. Проще говоря, ценой нефти, которая для наших фискальных позиций, финансовых позиций есть первоочередной показатель.
Одна логика: чем выше конъюнктура — тем больше финансовых средств. Внутренний спрос на финансовые средства невелик, поэтому существует больше оснований для того, чтобы бизнес оставлял эти средства, экспортируя ненужный, избыточный, неработающий капитал. Другая логика: чем выше конъюнктура — тем выше предположения по укреплению курса национальной валюты, тем больше прогнозные данные по отдаче на капитал,
EAST NEWS
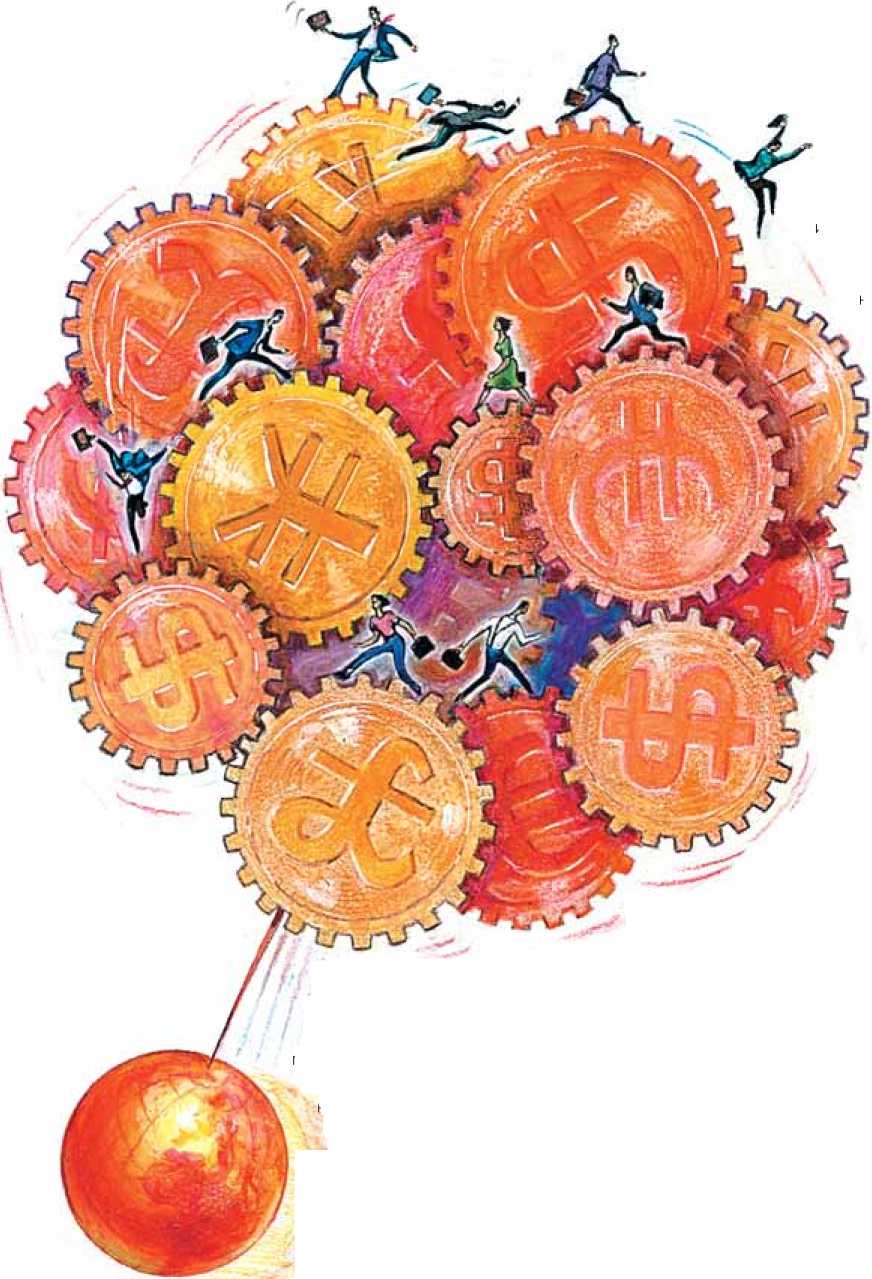
а это стимул для того, чтобы внешний инвестор вкладывал деньги в страну.
Обе логики правильные. Но поскольку
мы работаем с показателем чистого значения капитала и не обращаем внимания на валовое его значение, оказывается, что при одном и том же предположении можно получить совершенно разные результаты. При росте оборота движения трансграничного капитала, когда увеличивается и экспорт и импорт капитала, мы можем получить увеличение оттока и рассматривать это как свидетельство неважного инвестиционного климата. А это будет совершенно неверно.
Нормальной для страны является ситуация не двух пиков — Twin Peaks — и не двух впадин, а одного пика и впадины. Если у вас положительное сальдо текущего счета — нормально иметь отрицательное сальдо капитального счета, и наоборот. Мы в своей истории имели два года — 2005 и 2006 — периоды Twin Peaks, когда и текущий и капитальный счета были положительны. У нас была головная боль в связи с «перегревом» финансовых рынков и накоплением дисбалансов, которые во многом реализовались в нашей стране, как и во всем мире, после 2008 года.
Модель экономического развития России, как и некоторых других стран, до 2008 года основывалась на том, что мы экспортируем публичный капитал, создавая суверенные фонды и накапливая резервы, проводя политику полууправляемого курса национальной валюты (иногда государство проводит валютные интервен ции с целью изменить валютный курс в определенном направлении. — Ред.), и импортируем частный капитал. Естественно, эта политика сейчас проводиться не может, поэтому сокращение экспорта публичного капитала регулируется сокращением импорта частного капитала. Здесь существует большая секторальная разница. Импорт или экспорт капитала банками — это одна ситуация, чаще всего это хеджирование рисков клиентов. И совсем другая — корпоративный сектор, нефинансовые организации, для которых это во многом либо хедж, либо выход на другие рынки, либо экспорт капитала в производительной форме. И в данной ситуации мы предъявляем претензии к нашему бизнесу: почему он вывозит капитал и помещает его с нулевыми процентными ставками в виде краткосрочных активов на счета банков или в иные формы краткосрочных активов? А как бы мы хотели, если мы сами поступаем именно так? Мы-то свои резервы вкладываем в высоколиквидные, высоконадежные бумаги — fix
Меня беспокоит готовность международных финансовых институтов быстро менять свои приоритеты, оценки и правила в зависимости от текущей конъюнктуры.

of income, исключительно в инструменты долгового рынка. Почему? Потому что хотим поддержать высокую ликвидность и высокую надежность. И то же самое делает и частный бизнес, поэтому его поведение экономически рационально.
И когда сейчас я слышу от уважаемых финансовых организаций, МВФ, в частности, предложения о том, чтобы восстановить элементы контроля над движением капитала за капитальным счетом, мне кажется, что здесь международные

\ НАУЧНЫЙ ДИСПУТ \

ИТАР-ТАСС
На Гайдаровском форуме, 16 января 2013 года.
финансовые организации проявляют излишнюю гибкость. Это же касается рекомендаций относительно того, чтобы изменить цель по инфляции. Сейчас большинство центральных банков мира, которые таргетируют инфляцию, предполагают, что цель должна находиться около 2%. Уважаемые коллеги из МВФ говорят, что пора пересмотреть коридор и обратить внимание на цифру 4%. На мой взгляд, это эмоциональный подход. Зачем вообще ее пересматривать? Может ли мягкая денежная политика или мягкая фискальная политика быть в принципе средством решения долгосрочных глобальных экономических проблем, структурных по своей природе? Ответ мне кажется довольно простым. Мы должны посмотреть, есть ли отрицательный или положительный разрыв выпуска, то есть соответствует ли фактический экономический рост потенциальному экономическому росту при данных общественных институтах и структуре экономики.
Мы в Центральном банке Российской Федерации предполагаем, что в России нет отрицательного разрыва выпуска и фактический экономически рост находится на уровне 3,5% и примерно соответствует потенциальному.
Поэтому смягчение денежной политики, в частности, в виде снижения процентных ставок, было бы контрпродуктивно с той точки зрения, что не дало бы результата в виде желаемого экономического роста, а, скорее всего, привело бы к накоплению новых дисбалансов, новых рисков в разных сегментах экономики. То же самое касается возможности решать структурные проблемы за счет фискального стимулирования. Я абсолютно согласен с Антоном Силуановым (министром финансов. — Р ед .): данная схема не работает нигде в мире, включая Россию.
Дополнительное принятие обязательств и реализация в виде расходов, под которые нет нормального количества качественных инвестиционных проектов, которые не требуют данные институты и данная структура, не привело бы к качественному экономическому росту, разве что к кратковременному скачку, но создало бы большие дисбалансы и накапливание рисков, которые материали- зуются. Они имеют свойство «переходить» с бухгалтерских балансов в жизнь и критическим образом ее изменять.
Вернусь к движению капитала. Итог 2012 года в России — это 57 млрд оттока частного иностранного капитала. Вот опять мы дискутируем — много, мало. Вроде многовато. Но с другой стороны, если мы посмотрим движение поквартально, то увидим, что после кризисов 2008–2009 годов перемещение (отток капитала) — стабильное, не очень быстрое. Оно было прервано в IV квартале 2011 года и I квартале 2012 года. Напомню набор глобальных проблем, которые возникли в течение этих двух кварталов: снижение суверенного рейтинга США, обострение проблем суверенного долга европейской перспективы и серьезные сомнения инвесторов относительно темпов роста китайской экономики. И мы получили быстрый скачкообразный рост (в разы) этих показателей. Начиная со II квартала 2012 года мы снова вернулись к ситуации, когда квартальный чистый отток частного капитала составил менее $10 млрд. С моей точки зрения, эта цифра приемлема для нынешнего состояния институтов и уровня положительного счета текущего баланса.
Серьезные изменения с точки зрения трансграничного капитала для России происходят по мере изменения нашей экономической политики и глобальных обстоятельств. Их обуславливают три фактора.
Первый — глобальный финансовый кризис и делеверидж балансов и крупнейших инвесторов, которые происходят после этого, что означает меньшее дополнительное кредитование, больший возврат кредитов, а следовательно, и просто арифметически значимое движение капитала в сторону оттока.
Второе — это введение отмены капитального контроля, что предполагает гораздо больше, в разы, рост оборота движения капитала как по экспорту, так и по импорту. И одновременно это означает увеличение сальдирущей величины чистого оттока частного иностранного капитала.
И третье — плавающий курс рубля, который не позволяет эффективно осуществлять политику carry trade (заимствование средств в национальной валюте государства, установившего низкие процентные ставки, конвертация и инвестирование их в национальной валюте других стран, где высокие ставки. — Р ед .), движение «коротких» денег внутри страны для фиксации прибыли. И этим отсекает значительную часть вложений в инструменты национального денежного рынка и арифметически влияет на показатели частного иностранного капитала. Этот показатель экономически очень сложен, и не надо на его основании делать выводы для экономической политики страны. Единственное, что имеет значение, — движение прямых иностранных инвестиций и движение по категории «сомнительной инвестиции».
Вот это основание для нас задуматься, почему в условиях либерализации капитального счета (когда бизнес и население могут свободно приобретать иностранные активы в виде недвижимости, акций, инструментов трудового финансирования) граждане и предприятия предпочитают это делать нелегально, оформляя сделки под видом лжеимпорта товаров и т.д.
Это означает, что у участников этих операций есть серьезное беспокойство по поводу легализации своего бизнеса, то есть проблема вовсе не в контроле капитала, а в условиях функционирования капитала внутри страны.
Это для нас для всех основание, чтобы серьезно подумать о защите прав собственности, об административных барьерах.
Проблемы, которые кажутся макроэкономическими или фискальными, по сути своей являются структурными и институциональными. И пытаясь решить серьезные проблемы за счет монетарной или фискальной политики, мы рискуем не только их не решить, но и усугубить — при отсутствии изменений институтов и структуры экономики.
На пороге валютных войн
Теперь по поводу координации глобальной макроэкономической политики. Есть три ее элемента. Первый — это координация в рамках международных финансовых институтов. Как я уже сказал, у меня есть некоторое беспокойство по поводу готовности международных финансовых институтов быстро менять свои приоритеты, оценки и правила в зависимости от текущей конъюнктуры. Я бы призвал очень осторожно относиться к такого рода рекомендациям.
Второе — координация макроэкономики через совместную деятельность национальных регуляторов. Я представляю Россию в Совете по финансовой стабильности. За три года совет провел огромную работу, приняв очень серьезные решения в области ужесточения контрциклических требований к банкам и финансовым организациям, по капиталу, по ликвидности, по риску, требованиям к системно значимым финансовым институтам и соотнесения господдержки этих институтов с их собственной готовностью поддерживать себя. Это следствие того, что эти институты не находятся в плену требований политической конъюнктуры. Высокая независимость центральных банков позволяет принимать решения в области глобального макрорегулирования, говорить на одном языке, не вступать в противоречия и достигать понимания, что мы находимся в единой глобальной макроэкономической лодке. И решение, принятое любым из регуляторов, отзывается юрисдикцией всех остальных регуляторов.
С другой стороны, в области регулирования фискальной политики, политики управления долгом мы имеем серьезный дисбаланс. Ситуация здесь не улучшается, а ухудшается. Мы на пороге конфронтационных действий и, возможно, того, что излишне эмоционально называют валютными войнами. Возьмем, к примеру, недавнее решение нового правительства Японии по поводу более ин-тервенционалистской денежной политики. Фактически это политика, направленная на резкое снижение курса иены. Такую политику проводят и другие центральные банки и уважаемые правительства. И это путь не к глобальному единству, а к сепарации, сегрегации, разделу на отдельные зоны влияния, вплоть до очень острой конкуренции, мировых торговых и валютных войн.
Важен вопрос по поводу инвестиционного климата. Интересная ситуация: в России инвестиционный климат, или инвестиционный имидж, гораздо хуже, чем фундаментальные показатели — надежность бюджетной конструкции, бюджетное правило, валюта, таргетирование, контроль над банками и т.д. У некоторых наших коллег по БРИКС или СНГ противоположная ситуация, когда оценка их инвестиционного климата инвесторами лучше, чем их фундаментальные показатели. И то и другое не очень хорошо. Если ваши фундаментальные показатели хуже, чем инвестиционный имидж, это основание для рискованных стратегий инвесторов. Однако если у вас есть иной разрыв, то всегда есть и возможность за счет мер политики достаточно быстро этот разрыв преодолеть и привести в соответствие вашу инвестиционную привлекательность с фундаментальными показателями вашего развития.


