В плену "ручного" управления
Автор: Гонтмахер Евгений
Журнал: Прямые инвестиции @pryamyye-investitsii
Рубрика: Тренды и прогнозы
Статья в выпуске: 2 (118), 2012 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/142170460
IDR: 142170460
Текст статьи В плену "ручного" управления
В плену «ручного» управления
Страна, в которой не созданы институты управления, становится неконкурентоспособной на мировой арене.
Евгений ГОНТМАХЕР, член правления Института современного развития, заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук
Александр ТРУШИН
— Верно ли, что в условиях кризиса «ручное» управление дает положительный эффект?
— Кризис еще не закончился, мы пережили лишь его острую фазу. Наше правительство действовало в стиле абсолютно «ручного» управления. Форс-мажорные ситуации бывают и на предприятиях, и в государствах. Никто не застрахован от внешних воздействий. К таким ситуациям исчерпывающе нельзя подготовиться заранее.
Но в теории управления есть понятие «антикризисный менеджмент». Суть его в том, что антикризисные менеджеры, которых направляют, например, на обанкротившееся предприятие, действуют в рамках процедур и законов. В России сложилось искаженное представление об этом способе управления. Многим кажется, что антикризисный менеджер приходит и все своими руками исправляет. А на самом деле он должен действовать по процедурам (финансового оздоровления, увольнения сотрудников и т.д.). Задача антикризисного менеджера — снизить риски воздействия внешних факторов. Сейчас у нас, по примеру Запада, проводится стресс-тестирование банков. В частности, изучается способность банков противостоять кризисным явлениям. Эта разумная процедура является одним из элементов антикризисного управления.
Понятно, что в острой фазе кризиса могут возникать непредвиденные осложнения. Тогда, действительно, приходится принимать решения в режиме «ручного» управления. Так происходит во всех странах. Но есть механизмы управления, которые позволяют уменьшать негативные последствия, если они происходят в результате «ручного» управления. Такое управление не может становиться институтом. Оно применяется в каких-то исключительных ситуациях. И с обязательной оговоркой, что в дальнейшем все равно управление должно вернуться к установленным процедурам. При этом извлекают уроки, снимают негативные последствия «ручного» управления.
— А в России после острой фазы кризиса были проанализированы результаты, извлечены какие-то уроки?
— Никаких уроков из этого не извлечено. Если говорить о макроэкономических показателях, то предполагается, что мы в 2012 году достигнем докризисных значений ВВП. «Ручное» управление, которое было применено, отличается плоским, односторонним взглядом на проблему. Возвращение к докризисным показателям не означает улучшения положения. Кризис — не трагедия, это возможность санирования экономики. Вот этого и не было сделано. Диспропорции в экономике, накопившиеся к 2008 году и ставшие одной из веских причин кризиса, не были ликвидированы. Мы ведь показали значения падения ВВП в кризис больше, чем все другие страны и «большой восьмерки», и «большой двадцатки». Это случилось именно потому, что у нас отсутствует ряд важных институтов: регулирования рыночной экономики (в частности, институт здоровой конкуренции), перелива капиталов из одной сферы в другую, то есть диверсификации реальной экономики. Об этом у нас говорится с 2000 года, но ведь факт, что за годы кризиса мы еще более стали зависеть от экспорта нефти, газа и прочих ресурсов. Это две основные проблемы.
У нас нет институтов регулирования рынка труда. Здесь возникают серьезные диспропорции. Основная часть рабочих мест в России — неэффективные, с низкой зарплатой. Не потому, что люди плохо работают, а потому, что нет возможности при данном менеджменте, на данном оборудовании произвести то, что можно успешно продавать на рынке. Поэтому лозунг выхода из кризиса: «Мы должны по показателю ВВП и безработицы вернуться на докризисный уровень» — ошибочный. Формулировка должна быть другой: «Мы должны выйти из кризиса с обновленной экономикой». Или, по крайней мере, начать обновление экономики. Кризис еще не закончился, а мы пребываем в прежнем состоянии.
— Значит, «ручное» управление продолжается?
— К сожалению, оно по-прежнему остается основным в нашем государстве. Давайте рассмотрим последние события. Чуть больше года назад президент Дмитрий
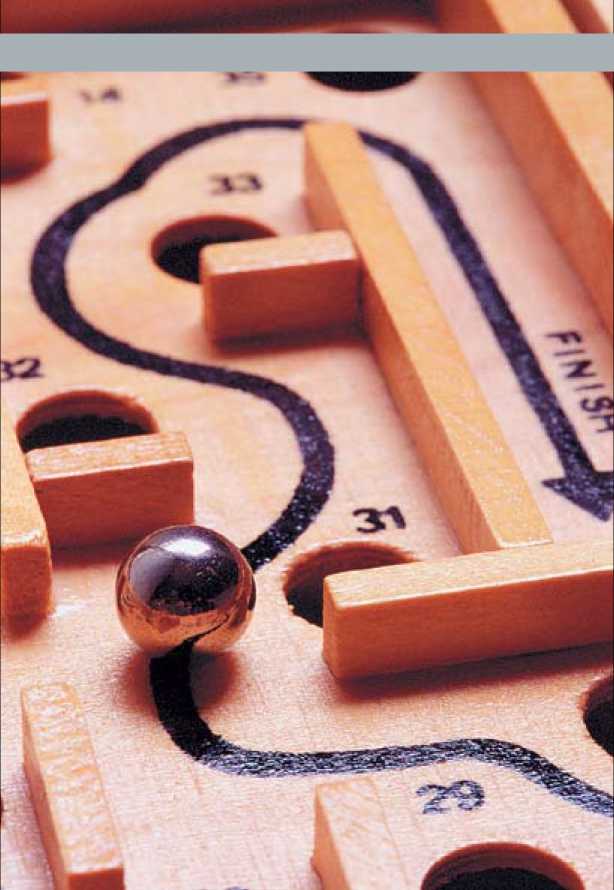
EAST NEWS
Медведев объявил о начале новой волны приватизации. Но до сих пор ничего не происходит. Недавно появилось сообщение, что вице-премьер Игорь Сечин предложил премьер-министру Владимиру Путину отложить приватизацию пакетов Роснефти, Транснефти и еще нескольких госкомпаний. И вот что получается. Президент дает поручение правительству, Госдума в декабре 2011 года принимает поправки к закону, но в результате приватизация откладывается. А это — важнейший институциональный вопрос. Такая ситуация возможна только в системе, построенной на «ручном» управлении.
Другой пример — история со страховыми тарифами. Год назад в Магнитогорске президент Дмитрий Медведев сказал, что их необходимо вернуть почти к прежнему уровню. Предприятия платили 26%, а с 2011 года стали платить 34%. На 2012 год страховые выплаты вроде бы снизили. Однако теперь закон напоминает какого-то уродца: для одних предприятий тарифы стали ниже, для других, наоборот, повысились. А с 2014 года эти 34% снова возвращаются. Это очень странно: президент публично отдает распоряжения, но выполняют их с точностью до наоборот.
— Исполнители глупые?
— Нет, это еще один результат «ручного» управления. Этот метод управления нельзя упрощать: вот сидит большой начальник, отдает указания, а все выполняют. Это лишь отчасти так. А на самом деле те, кто ниже, нередко саботируют идущие сверху указания. При этом месседж, спущенный сверху, в конце концов оказывается совершенно неузнаваемым. Герман Греф, когда был министром экономического развития и торговли, говорил об особенностях прохождения документа через аппарат правительства: на входе документ напоминает арабского скакуна, а на выходе — двугорбого верблюда.
Если бы Россия была, допустим, по размеру как Монако, «ручное» управление было бы эффективно. Руководитель знал бы каждого чиновника, лично мог бы каждому объяснить задачу и контролировать исполнение. Но вот для Люксембурга это было бы уже проблематично. А тем более для такой большой страны, как Россия.
— Создается впечатление, что результатом «ручного» управления становится потеря управляемости страны в целом…
— Да, абсолютно согласен. Вертикаль власти, о которой так много говорят, — миф. Ее не существует. Потому что значительная часть чиновников госаппарата сращена с бизнесом. И эти люди, принимая на своих местах решения, исходят не из интересов государства, а из интересов своего бизнеса. Кормит их не зарплата, а доходы от бизнеса. Помните, Владимир Путин в Ставрополе попытался пожурить владельцев электрических сетей? Оказалось, что это государственные компании, но зарегистрированные в офшорах. Я охотно поверю, что Владимир Владимирович этого не знал. Губернаторы, хоть их назначает президент и они формально перед ним отчитываются, на самом деле — полные хозяева в своих регионах. И нередко действуют исходя не из интересов государства, а из интересов своих бизнесов. Поэтому в стране нет настоящего хозуправления. Страна развалилась на какие-то отраслевые блоки. В России сейчас лишь менее 15 субъектов Федерации являются донорами федерального бюджета, а остальные — реципиенты. Это свидетельствует о неэффективности государственного управления. 60% налогов поступают в центр, и потом начинается торговля между центром и регионами без каких-либо внятных процедур. Да, есть бюджетные правила, по которым деньги распределяются, но они непрозрачные. Удивительно, как это может быть в управляемом государстве, когда большая часть регионов является реципиентами, а не донорами?
— Такая система управления в стране сложилась стихийно, сама собой, или это результат чьих-то целенаправленных действий?
— И то и другое. В начале нулевых годов были весьма благоприятные экономические предпосылки для выстраивания системы госуправления: росли цены на нефть, в страну начали поступать деньги. Именно тогда возможно было четко сформулировать оптимальную роль государства в экономике, эффективно распределить полномочия между центром и регионами, определить партнерские отношения государства и бизнеса. Не хватило для этого политической воли. Зачем лишние хлопоты, если все и так идет хорошо? По английской пословице: «Не беспокой беспокойства, пока они не побеспокоили тебя». И в этом проявился элемент стихийности.
Были и сознательные, целенаправленные действия. Такая система отношений оказалась выгодной для какой-то
«Супротивных много, это верно. Как только восстала Россия из пепла Серого, как только осознала себя, как только 16 лет назад заложил государев батюшка Николай Платонович первый камень в фундамент Западной Стены, как только стали мы отгораживаться от чуждого извне, от бесовского изнутри — так и полезли супротивные из всех щелей, аки сколопендрие зловредное. Истинно — великая идея порождает и великое сопротивление ей. Всегда были враги у государства нашего, внешние и внутренние, но никогда так яростно не обострялась борьба с ними, как в период Возрождения Святой Руси».
Владимир Сорокин, «День опричника»
части нашего государственного аппарата. Она позволяла чиновникам безнаказанно заниматься бизнесом. И в условиях отсутствия конкуренции и прозрачности «откачивать» достаточно большие деньги. Могу назвать цифру из закрытых государственных источников. За 10 лет из страны нелегально было выведено $500 млрд. Можно эту цифру оспаривать, чуть больше или чуть меньше, но все равно сумма немаленькая.
— Можно ли назвать бенефициаров?
— Безусловно. Я считаю, что бенефициары, в первую очередь, это все, кто связан с экспортом наших природных ресурсов — нефти, газа, металлов. Люди, которые возглавляют госкомпании или частные компании, получившие разрешение на экспорт ресурсов. А также все, кто создает условия и обслуживает этот сектор: чиновники госаппарата, некоторые банки и страховые компании, вплоть до закрытых ведомственных поликлиник.
— Несколько лет назад в прессе появилась «утка» о том, что якобы Мадлен Олбрайт заявила следующее: «Для обслуживания газовой трубы в России достаточно 50 млн человек». Вам не кажется, что у нас этот сценарий на самом деле реализуется?
— Об этом мне приходилось писать неоднократно. Реализуется он не «вашингтонским обкомом», а нашей властью. Точнее, такой сценарий — результат тотального «ручного» управления. Мой друг Александр Аузан, директор Института национального проекта, говорит, что лет через 10, если все будет так продолжаться, Россия станет «скучной страной». Если в нашей стране останется только нефтегазовый сектор, в нем будут работать 10–15 млн человек. И еще столько же будут их охранять и обслуживать. Ну и, наверное, какая-то часть населения будет жить на подачки от этого сектора.
— А что будут делать остальные?
— Нефтегазовый сектор — не резиновый, на всех не хватит. Просто быть мелким рантье, который перебивается с хлеба на квас, тоже мало найдется желающих. Значит, люди будут просто уезжать из страны. Россия может расстаться со значительной частью своего активного населения. В минувшем году из страны было вывезено около $80 млрд, причем вполне законным путем. Но ведь деньги не сами по себе ушли, их вывезли люди. Наших соотечественников становится все больше и больше в Европе и Китае, они покупают недвижимость в разных странах, живут и работают там.
А другая часть населения просто деградирует. И первые признаки деградации уже заметны. У нас уже сейчас несколько миллионов человек (это официальные данные) — здоровых, нормальных — просто не хотят работать. Они живут за счет родственников, побираются. Где- то поработал недельку, получил какие-то деньги на кусок хлеба и водку, потом месяц не работает.
— Так что будет с нами дальше?
— Мы с вами беседуем в начале января. Пока вы подготовите этот текст, пока он будет опубликован, может многое поменяться. Я думаю, что очень вероятен сценарий сильной встряски в стране. Не скажу слово «революция», оно мне не нравится. Но именно такие события могут стать следствием «ручного» управления. Вспомните события 1991, 1993 годов. Это был просто апофеоз «ручного» управления. Но после таких периодов жизнь должна возвращаться в нормальное русло. У нас этого нет. Критическая масса ошибок накапливается, а механизма коррекции нет.
Я надеюсь, что у руководителей страны найдется воля отказаться от «ручного» управления и начать создавать институты. Одним из таких институтов, способствующих выходу из критической ситуации, является общественный диалог. Он строится по определенным правилам. Обозначается проблема, собираются представители от разных сторон, обсуждают и находят решение. Причем решение достигается только путем компромисса с обеих сторон.
Власть ведь не сакральна. Мы знаем множество примеров из современной жизни разных стран, когда либо президент распускает парламент, либо парламент президента отправляет в отставку. И ни одна страна от этого не рухнула. В Бельгии, кажется, больше полутора лет не было правительства. И никакой революции не случилось, хотя противостояли друг другу две национальные силы — валлоны и фламандцы. В конце концов решение проблемы было найдено. И смогли его найти именно потому, что действовали институты, процедуры диалога.
А вот в Югославии представители разных республик не смогли договориться друг с другом. И пролилось много крови. Там возобладало «ручное» управление, а не институты. В такой же ситуации был и Советский Союз в 1991 году. Именно «ручное» управление привело его к краху. И не обошлось без крови, она пролилась и в Прибалтике, и в Приднестровье, и в Карабахе, и в Средней Азии. Мы сейчас находимся в очень похожей ситуации. Мы попали в плен «ручного» управления, причем не только на уровне решений правительства, а в глобальном смысле. Ситуация не фатальная, но очень сложная.
— Есть ли из нее выход?
— Думаю, есть. И находится он на путях институционального строительства. Нам нужно понять несколько важных вещей. У нас очень сильны антиамериканские и антиевропейские настроения. Мы не хотим, чтобы западные силы вмешивались в наши дела. И это, может быть, справедливо. Но без их опыта институционального строительства нам не обойтись. Я знаю, что есть разные точки зрения по вопросу об использовании чужого
Мы попали в плен «ручного» управления. Ситуация сложная, но не фатальная. И выход из нее лежит на путях институционального строительства.
опыта, по вопросу переноса институтов в другую страну (см. статью Г. Клейнера на с. 11. — Р ЕД .).
Но не желать знать об этом вообще и с порога отвергать — просто неразумно.
Страна, которая живет в условиях «ручного» управления, становится неконкурентоспособной на мировой арене. Читайте Владимира Сорокина. «День опричника» — гениальная вещь. Пророческая.


