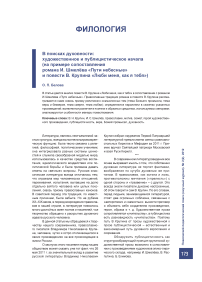В поисках духовности: художественное и публицистическое начала (на примере сопоставления романа И. Шмелёва «Пути небесные» и повести В. Крупина «Люби меня, как я тебя»)
Автор: Белова Ольга Павловна
Журнал: Поволжский педагогический поиск @journal-ppp-ulspu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 2 (2), 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье дается анализ повести В. Крупина «Люби меня, как я тебя» в сопоставлении с романом И. Шмелёва «Пути небесные». Православные традиции романа в повести В. Крупина рассматриваются нами сквозь призму религиозно осмысленных тем (тема Божьего промысла, тема веры и безверия, тема смерти, тема любви); определяются параллели в сюжетах указанных произведений; выявляются различия в поэтике и образных средствах, используемых авторами; анализируются особенности манеры повествования.
В. н. крупин, и. с. шмелёв, православие, мотив, сюжет, герой художественного произведения, публицистичность, вера, божий промысел, духовность
Короткий адрес: https://sciup.org/14219153
IDR: 14219153
Текст научной статьи В поисках духовности: художественное и публицистическое начала (на примере сопоставления романа И. Шмелёва «Пути небесные» и повести В. Крупина «Люби меня, как я тебя»)
Литература, являясь неотъемлемой частью культуры, всегда выполняла мировоззренческую функцию: была тесно связана с религией, философией, политическими учениями; она интегрировала разные системы ценностей и служила своеобразной моделью мира, использовалась в качестве средства воспитания, идеологического воздействия или политической борьбы и была призвана давать ответы на «вечные» вопросы. Русская классическая литература всегда отличалась тем, что отражала мир человеческих отношений, переживания, испытания, выпавшие на долю отдельно взятого человека или целых поколений, сквозь призму православных канонов. В советский период эта традиция, по известным причинам, была забыта. Но на рубеже XX–XIX веков, в период возрождения православия в нашей стране, в литературе появилось много достойных имен поэтов и писателей, чье творчество обращено к раскрытию духовного идеала русского человека.
В данной статье мы обращаемся к творчеству нашего современника, православного писателя Владимира Николаевича Крупина, человека, чутко и остро откликающегося в своих произведениях на все происходящее в жизни России.
О заслугах этого писателя перед нашим обществом может сказать уже тот факт, что 26 мая 2011 г. за значительный вклад в развитие русской литературы Владимир Николаевич
Крупин избран лауреатом Первой Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия за 2011 г. Премию вручал Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
***
В современном литературоведении все яснее вызревает мысль о том, что собственно духовная литература не терпит фантазии, воображения по сугубо духовным же причинам. В православии, как истина и ложь, противоположны мечтания («прелесть») с одной стороны и «трезвение» – с другой. Это всегда знали писатели духовно настроенные, об этом говорит и сам В. Крупин. По его словам, перед людьми, занимающимися литературой, стоят два огромных соблазна, связанные с «авторством» и «самостью»: вынести приговор и объявить себя создателем произведения, героя, образа и т. д. Художественная проза сопротивляется «учительству», а публицистика есть разновидность «учительства». Поэтому путь В. Крупина от прозы художественной к прозе публицистической – естественный и закономерный путь духовного взросления и созревания.
Обнаружить публицистичность как структурообразующий принцип крупинской художественной прозы возможно в сопоставлении с произведениями художников эпико-лирического склада, например И. Шмелёва, В. Распутина, Б. Екимова.
Поволжский педагогический поиск (научный журнал). № 2(2). 2012
Поволжский педагогический поиск (научный журнал). № 2(2). 2012
Выбор произведений для анализа в данной статье обусловлен прежде всего общим для них сюжетообразующим началом – мотивом Божьего промысла [1].
Провиденциальные мотивы не раз привлекали внимание русских писателей (А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь, Ф. М. Достоевский, Н. А. Некрасов, Л. Н. Толстой и др.). Были предприняты неоднократные попытки осмыслить и описать это явление. Наиболее полно и глубоко, на наш взгляд, подошел к этой проблеме И. С. Шмелёв. В романе «Пути небесные» писатель стремится осмыслить человеческую жизнь с точки зрения духовности, тем самым соединяя традиции романной и агиографической литературы.
Говоря о существенных различиях в писательской манере В. Крупина и И. Шмелёва, мы считаем необходимым обратить внимание на временные рамки, в которых они творили. Глубокая, масштабная задача И. Шмелёва – написание духовного романа – обусловлена, в частности, определенной подготовленностью читателя, общества. В литературе XIX века тема веры и безверия реализуется на высоком уровне философских и религиозных дискуссий. В литературе современного периода, в силу объективных причин, претерпев значительные изменения, данная тема «опустилась» до уровня поиска ответа на вопросы: «Существует ли Бог? Есть ли вера у человека?» Только в художественных произведениях последних лет наблюдается некоторая тенденция возрождения православных традиций, а также осмысления этой проблемы под иным углом зрения.
В обоих произведениях – «Люби меня, как я тебя» и «Пути небесные» – ведущими являются мотивы памяти смертной (памяти о смерти), искушения, предугаданности смерти (и как антитеза – внезапной смерти ) и Божьего промысла .
Разумеется, степень раскрытия образов главных героев – Дариньки и Виктора Алексеевича, постановка самой задачи – написание духовного романа, попытка духовного осмысления и изображения молитвенного состояния человека, восхождение от «путей земных» к «путям небесным» – неравновелики по отношению к героям повести «Люби меня…» и задаче ее автора. Однако общность взглядов авторов, центральный мотив – мотив Промысла в жизни человека – дают нам право сравнить и главных героев, и приемы раскрытия характеров.
Оба героя – и шмелевский Виктор Алексеевич Вейденгаммер (астроном-механик), и крупинский Александр Васильевич (социолог-аспирант) – люди маловерные. Саша даже не носит крестик, бывает в церкви редко, в Лавре – «только по работе» [10, с. 66]. Виктор Алексеевич, несмотря на то что «в детстве исправ- но ходил в церковь, говел и соблюдал посты», затем все подверг «критическому анализу» и «стал никаким по вере» [12, с. 18–19].
Раскрытие характеров обоих героев происходит через поиск ими смысла жизни. Этот прием позволяет писателям выразить собственное отношение к традиционной для русской культуры проблеме – соотношению духовного и рационального начала, веры и неверия в человеке.
Действительно, прогресс социальный и материальный не способствует прогрессу нравственному. Недаром произведения писателей-классиков, обращающихся к теме веры и безверия, написаны чаще всего в годы реакции, в пореформенный, кризисный для страны период. Так, например, один из героев романа И. А. Гончарова «Обрыв» [2] нигилист Марк Волохов, ставя под сомнение все нравственные ценности, принятые испокон веков в христианском обществе, отрицает Бога и бессмертие души. Любовью он считает полную отдачу своей страсти, своему влечению, впечатлению. Он не желает брать на себя обязательства или быть должным кому-то. Он горд и призывает к этому других. Он, как змей-искуситель, сбивает с истинного пути Веру. И только христианская мудрость бабушки помогает Вере возродиться к новой жизни. Разыгравшаяся трагедия поражает впечатлительного и поддающегося противоречивым страстям Райского, в результате чего он приходит к потребности разобраться в себе и самосовершенствоваться.
Проблеме веры и неверия посвящены многие романы Ф. М. Достоевского. Так, например, преступление Родиона Раскольникова связано с отрицанием в его сознании веры. Он, возомнив себя человеком, «имеющим право» на решение судеб других, идет на убийство. Однако как преступление Раскольникова обусловлено отрицанием веры, так и его покаяние происходит в связи с непреодолимой необходимостью обретения себя самого и веры в Бога. Недаром в эпилоге на лицах Сони и Раскольникова сияет «заря обновленного будущего, полного Воскресения в новую жизнь. Их воскресила любовь» [3, c. 421]. Общеизвестно, что в христианской традиции существует высокая истина: Бог есть Любовь.
На более высоком уровне проблема веры и безверия решается Ф. Достоевским в романе «Братья Карамазовы», где практически все герои утрачивают веру. Даже в жизни Алеши – Божьего человека – наступает момент, когда он усомнился в Боге. Тление мертвого тела старца Зосимы, отсутствие чуда, которого так все ждали, становится существенным испытанием для Алексея Карамазова. «Но не чудес ему опять-таки было нужно, а лишь «высшей справедливости», которая была по верова- нию его нарушена и чем так жестоко и внезапно было поранено сердце его» [4, c. 306–307].
Подобных примеров, особенно из классической литературы, можно привести множество. Об этом писал и И. С. Шмелёв в романе «Пути небесные».
Говоря о проблеме веры и безверия в наши дни, можно утверждать лишь то, что религиозное сознание современной России находится еще в начальной стадии. Даже теперь, когда церковь официально разрешена и с каждым годом все больше и больше людей посещает храмы, приходится констатировать, что чаще всего причиной этого служит не страх Божий, а страх одиночества и беспомощности. То, что происходит в нашей стране сегодня, рождает страх заброшенности человека в обществе, где господствуют насилие, болезни, нищета, безработица и преступность.
Драма современного человека, утратившего за долгие годы советской власти веру в Бога, а вместе с ней основные смыслообразующие жизненные ценности, заключается в том, что ничего другого у человека не появилось: в его душе образовалась пустота, которая разрушает изнутри.
Именно это волнует современных художников слова, и в частности В. Крупина. Именно это ставит его перед необходимостью уже не столько образно показывать, сколько публицистически убеждать, что единственный выход из сложившейся ситуации – это православие.
Вспомним, как в другой повести В. Крупина «Крестный ход» рыжий мужчина, один из паломников, объясняет свое участие в крестном ходе:
– С одного раза я до конца ничего не понял. <…> Вот старухи – ползут, бредут, шара-чатся и не падают. Чем живы?
– Святым духом. Молитвой.
– Вот то-то и есть. И это же очень просто: живы Святым Духом. Отыми воздух – задохнутся, отыми Святой Дух – упадут. Но если так просто, почему остальные-то гибнут? Вот в эти минуты. Готовы мать родную и мать Россию за лекарства продать, чтоб жить, и все равно загибаются. Но ты встань и иди! А не идут. А почему? <…> А потому, а потому, брат ты мой, что Богу надо молиться. Тут исцеление. Но человек подохнет, а к церкви не придет.
– Бес не пускает.
– Сам дурак, сам себе бес… [9, c. 31].
Этот диалог, опять-таки публицистический по своему духу, объясняет многое: нельзя понять веру разумом, ее нужно прочувствовать сердцем и принять. В этой же повести В. Крупин описывает участников, среди которых не только старухи, бережно хранящие основы православия, но и люди более молодые и более образованные: музейные работники, учителя, врачи, инженеры и даже ученые-физики. Всех их объединяет желание пройти крестный ход, символизирующий крестный путь Спасителя на Голгофу; желание очиститься от грехов, но самое главное – глубокая, настоящая вера как основополагающая часть их жизни.
Однако в отличие от этих старух и ученых другой герой В. Крупина Саша («Люби меня, как я тебя») и герой И. Шмелёва Вейденгам-мер («Пути небесные») не имеют таких сильных духовных основ. Поэтому для обоих авторов важно показать, что отрыв от духовности, увлечение только наукой ведет к гордыне – одному из главных грехов человека.
И. Шмелёв как художник тщательно выписывает все изменения, происходящие с Виктором Алексеевичем: «В нем нарастала, по его словам, «похотливая какая-то жажда-страсть все решительно опрокинуть, дерзнуть на все, самое-то священное… духовно опустошить себя». Он перечитал всех борцов за свободу мысли, всех безбожников-отрицателей, и испытал как бы хихикающий восторг.
– С той поры «вся эта ерунда», как называл я тогда религию, – рассказывал Виктор Алексеевич, – перестала меня тревожить. Нет ни Бога, ни дьявола, ни добра, ни зла, а только – «свободная игра явлений». И все» [12, c. 19].
По справедливому замечанию М. Дунаева, «рассудок не мог привести к иному результату, как только к возрастанию в гордыне. <…> Шмелевский анализ точен: гордыня ведет к жажде деятельного самоутверждения, реализуемого через отвержение всего самого священного, и по истине это становится только бесовскою тягою к духовной пустоте» [6, c. 696].
Подобная мысль наблюдается и в повести В. Крупина. Однако для ее «озвучивания» автор пользуется не психологическим анализом и художественными приемами, а средствами публицистического стиля. Значимо то, что мысль о гордыне высказывает Эдуард Федорович, научный руководитель Александра Васильевича – человек науки, но в то же время верующий (хотя нигде этого и не сказано). Мы не видим его молящимся или посещающим храм, но мы можем определенно предположить, что он – православный. Об этом, например, говорят дискуссии с его подопечным. Недаром Эдуард Федорович является для героя большим авторитетом. Его мысли и жизненная позиция близки герою и героине. Он не только рассеивает сомнения Александра по поводу отношений с Сашей, но и помогает молодому аспиранту определить и жизненную позицию, и научную точку зрения: «Мы же договорились: ты строишь две пирамиды человеческого открытия мира, поиска истины, созданий жизненного идеала. Одна пирамида обезбоженного созна-
Поволжский педагогический поиск (научный журнал). № 2(2). 2012
Поволжский педагогический поиск (научный журнал). № 2(2). 2012
ния, полная гордыни, псевдооткрытий, изобретений велосипедов, ведущая к озлоблению и разочарованию , т. к. рядом создаются тьмы и тьмы других пирамид со своими идеалами. Все доказывают, что их идеал найкращий, вот тут и кровь. И второе построение: когда идеал известен – Иисус Христос, когда истина ясна с самого начала, то человек не тычется в поисках смысла жизни, а живет и спасает душу. Ибо – только душа ценна, все остальное – тлен» (курсив мой. – О. Б.).
То, что знает Эдуард Федорович, еще предстоит познать сердцем (а не только умом!) его подопечному. А пока руководитель продолжает учить и наставлять «на путь истинный» своего аспиранта:
– Выступал? (на симпозиуме. – О. Б.)
– Нет. С чем? Перед кем?
– Гордыня, юноша. Сеять надо везде, и в тернии, и при дороге [10, c. 70].
Эти слова отсылают нас к известной евангельской притче о сеятеле: «Ко всякому, слушающему слово о Царствии и не разумеющему, приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его; вот кого означает посеянное при дороге. <…> А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно» [Мф. 13:19, 22].
Таким образом, реплика руководителя выполняет двойную функцию: с одной стороны, используется автором как языковое средство для придания речи героя меткости, образности и оценочности. Эта черта характерна для публицистического стиля, где очень часто именно с этой целью используются библеизмы. С другой стороны, слова Эдуарда Федоровича выражают и его жизненную позицию: делиться своими мыслями нужно со всеми и везде. Гордыня – один из тяжких грехов, поэтому не стоит брать его на душу, возомнив себя умнее или лучше всех.
Возвращаясь к сопоставлению главных героев повести В. Крупина и романа И. Шмелёва, заметим, что Александр и Виктор Алексеевич, имея разные судьбы, пройдя разными «земными» путями, живя в разное время и в обществе с разным уровнем развития науки, приходят к выводу о тщетности понять и найти смысл жизни с помощью научного знания, ума. Вейденгаммер почувствовал однажды «страшную тоску… такую беспомощность ребячью перед этим бездонным не понятн ы м , перед этим Источником всего: сил, путей, движений! <…> И в неопределимый миг, в микро-миг, не умом я постиг, а чем-то… каким-то… ну, душевным, что ли, вот отсюда идущим чувством?.. – показал он на сердце, – что исследовать надо там, та-ам, в этом проколике… но – и это самое оглушающее! – и там-то… опять на-ча-ло, начало только… меня ослепило, оглушило, опалило, как в откровении: дальше уже нельзя, дальше – конец человеческого, предел» [12, c. 22–23].
Саша также не раз задумывался о смысле своей диссертации: «А сам-то, сказал я себе, не слова ли собираешься плодить? Интересно, когда ты успел их выносить, когда это они успели созреть? И от каких плодотворных мыслей зачаты?»
Поиски смысла жизни, бессилие в познании истины приводят героя В. Крупина к решению уничтожить свою диссертацию: «Я нашел свою тему и дал компьютеру приказ стереть ее. В следующую секунду приказ был исполнен. Гоголю было труднее уничтожить свою рукопись, подумал я, пришлось сжигать» [10, c. 64].
Итак, привыкшие полагаться в поисках истины на науку, ее открытия и научные объяснения, оба героя разочаровываются в ней. Познание Истины открывается героям с помощью Божественного промысла – встречи с героиней, несущей духовное начало.
В диссертационном исследовании Л. Е. Зайцевой была предложена весьма условная классификация героинь: «В литературной же традиции можно отчетливо выделить два типа героини. Во-первых, это тип героинь Ф. Достоевского («Преступление и наказание») и И. Шмелёва («Пути небесные»), открывающих герою путь от греха к жизни в Боге. Во-вторых, это распространенный у современников Шмелева тип героини, например, у М. Булгакова («Мастер и Маргарита») и у В. Брюсова («Огненный ангел») – героини, которые добиваются своих целей в союзе с сатаной» [7, c. 119]. На наш взгляд, Саша из повести «Люби меня, как я тебя» определенно относится к героиням первого типа.
Она, как и Даринька в романе «Пути небесные», глубоко религиозна. Она также воспринимается героем как необыкновенная: «Как ты прекрасна, умна, о, как ты прекрасна, у тебя все такое светлое, магнитное , спрятать бы тебя в деревенской бане и с тобой бы вместе спрятаться…» [10, c. 97] (курсив мой. – О. Б.).
Вспомним, как и Виктор Алексеевич, и Вагаев наблюдали и пытались разгадать тайну очарования Дариньки: «В Дариньке это «вечное», это мерцанье миров иных, «небесная красота»… необъяснимая, неназываемая прелесть – была исключительна, в преизбытке, как дар небес. Она была, именно, «чарующая прелесть»… <…> Это святое , что было в ней, этот «свет нездешний» наполняли ее видениями, голосами, снами, предчувствиями, тревогами» [12, c. 258] (разрядка автора, курсив мой. – О.Б.). Доктор Хандриков также заметил в ней особый свет: «В ней была чудесная капля Света, зернышко драгоценное, оттуда , от Неба, из Лона Господа. Отблеск С вета , неведомыми нам путями проникающий в прах земной. <…> Этот редчайший отсвет бывает в людях: в лицах, в глазах. Бывает чрезвычайно редко. <…> Кротость, неизъяснимый свет, очарование… святая ласка, чистота и благость. Через страдание дается…? Столько страданий было, и вот отлились в эти золотинки, в Божий Свет» [12, c. 258] (разрядка автора. – О. Б.).
Обе героини – духовно стойкие женщины, но авторы «наделили» их многими земными переживаниями: любовь, страсть, искушение, страх, проявление воли, раскаяние.
Так, И. Шмелёв на примере образа Да-риньки четко показывает, что человек приходит к греху не сразу, а постепенно. Описывая противоречивое состояние Дариньки, ее головокружительно развивающиеся отношения с Ва-гаевым, чувство вдохновенного умиления, но в то же время осознания греховности всего этого, автор пользуется особой лексикой. Он употребляет уменьшительно-ласкательные слова («гусарчик», «прелестница»); использует лексику с семантически наполненными корнями («заблудилась» от слова «блуд», «прелесть» от «прельщение», «ослепление» от «слепой»), другие слова, характеризующие состояние человека (желание, любование, услаждение, оцепенение, видение). Как автор, повествующий об этой ситуации, но пытающийся дать наиболее полную и достоверную картину, И. Шмелёв пользуется различными приемами. Он приводит многочисленные источники, характеризующие эту ситуацию с разных точек зрения (письма Вагаева, воспоминания Дариньки и Вей-денгаммера, размышления героев о промыс-лительном значении этого «романа») и представляющие собой глубокий психологический и духовный анализ всего произошедшего.
В. Крупин тоже показывает, что Саша переживает душевные муки – она сознает полное растворение себя в поглотившем ее чувстве, но в то же время понимает, что за все, а особенно за дарованное ей счастье, придется платить. В этом она признается своему возлюбленному:
«Ты же знаешь, я сопротивлялась, как могла, я же знала, что это мучение, что все пойдет иначе.
– Жалеешь?
– Поздно жалеть. Только одно: где мы раньше были? Ой, как поздно.
– Поздно жалеть или поздно встретились?
– И то, и другое.
Она почувствовала, что я подумал что-то важное для нас. Мы остановились» [10, c. 98].
Обеих героинь сближает знание божественного откровения, а значит, обладание его мудростью. Вспомним слова Дариньки: «Поду- мать только, какие простые слова, как надо: «да отвержется себе и возьмет крест свой и по Мне грядет!» Тут все, как надо. Каждому дан крест и указано, что надо: нести, идти за Ним. (курсив мой. – О. Б.) И тогда все легко, всем. И это совсем просто. А думают, что жизнь… чтобы ему было хорошо. И я так думала, маленькая когда…» [12, c. 390].
Главная героиня В. Крупина также наделена этой мудростью. Об этом нам говорит эпизод, когда она надела крестик на Сашу и сказала: «Я Вас потому так и потащила, что испугалась за Вас. Вдруг что случится, а Вы без креста. Ужас представить! Мы же идем за крестом, она выделила “за”» [10, c. 89].
Известно, что крест – это символ любви к Богу и ближнему, их неразрывности. Вертикаль обозначает любовь к Богу, соединяет небесное и земное, а горизонталь – любовь к ближнему своему. Поэтому в христианском понимании любовь и вера – два неразрывных начала.
В романе «Пути небесные» представлен, на наш взгляд, едва ли не единственный в русской литературе пример любви духовной. Автору важно сказать, что счастье двух любящих людей, семейное счастье определяется способностью к взаимной духовной любви прежде всего.
На протяжении всего романа И. Шмелёв подчеркивает, что промысел всегда дает человеку возможность выбора между грехом и чистотой. В помощь человеку свыше постоянно посылаются некие «знаки», которые приоткрывают смысл событий и тем самым предоставляют каждому право на самостоятельные действия. Однако понимают эти «знаки» далеко не все; научиться разгадывать их – вот задача каждого. Действительно, «…но не вечно же спать…», как сказано в эпиграфе к повести В. Крупина «Люби меня, как я тебя».
Кроме того, оба произведения сближает раскрытие мотива промысла через предназначенность героев друг другу.
У И. Шмелёва взаимопредназначен-ность героев открывает батюшка Варнава: «Дарья… вот и не робей, победишь». Даринь-ка поняла батюшкино слово: «Дарья означает – побеждающая, говорили в монастыре. <…> Ишь, быстроглазая, в монашки хочешь… а кто возок-то твой повезет? Что он без тебя-то, победитель-то твой?»
После только узнала Даринька, что Виктор означает – победитель» [12, c. 247–248].
О предназначенности героев друг другу в повести «Люби меня, как я тебя» говорит руководитель Саши Эдуард Федорович: «…Он заметил, что не простая какая встреча . Он еще, простите, процитировал какого-то поэта, но у тебя, говорит, не так. У поэта: «И сразу поняли мы оба, что до утра, а не до
Поволжский педагогический поиск (научный журнал). № 2(2). 2012
Поволжский педагогический поиск (научный журнал). № 2(2). 2012
гроба». А у нас, Саша, должно быть до гроба» [10, c. 88] (курсив мой. – О. Б.).
Да и сам Александр, вспоминая, все пытался понять, почему он так внезапно решил съездить в Санкт-Петербург на симпозиум: «Но что-то потянуло: Что? – думал я потом. Что? Есть что-то не зависящее от нас ; как сказал поэт: «Некий норд моей судьбою правит», вот этот некий норд обратил мое внимание на объявление о совместной конференции просто ученых и ученых-богословов» [10, c. 64] (курсив мой. – О. Б.).
Божий промысел помог обоим героям ощутить единение с другими людьми и с высшим началом. Так, через церковь «постигает и Виктор Алексеевич свое соборное (курсив автора. – О. Б.) единство со всем и со всеми. Это произошло во время крестного хода, который стал «сдвигом» в его «чувство связанности» с народом, передавшего ему возможность «познать все». «Все мы единым связаны, одному и тому же обречены, как перст…» [6, c. 712]. И. Шмелёв тщательным образом показывает переживания и ощущения героя во время крестного хода. Сначала автор как бы со стороны наблюдает за героями, повествует о том, как несут иконы, что поют певчие, как ведут себя Даринька и Виктор Алексеевич. Но затем, чтобы более правдоподобно и полно показать чувства героя, Шмелёв дает слово самому В. Вейденгаммеру, приводя его воспоминания: «Я не ожидал, что этот крестный ход оставит во мне глубокий след… явится сдвигом в моей духовно косной жизни, вызовет чувства и мысли глубокого содержания. Это были мгновенья мыслей-ощущений» [12, c. 334–335].
У В. Крупина Александр тоже ощутил себя единым со всеми именно в церкви, однако автор говорит об этом лишь мимолетно: «После ночной пасхальной службы вышел вместе со всеми из церкви. Она была как корабль, идущий навстречу рассветному, играющему в небесах солнцу. «Христос Воскресе!» говорили мне незнакомые люди . «Воистину Воскре-се!» отвечал я, и мы целовались . И одно только было – скорей к Саше, похристосоваться с нею» [10, c. 106] (курсив мой. – О. Б.).
Говоря о мотиве Божьего промысла, нельзя не обратить внимание на то, что в повести «Люби меня, как я тебя» именно через этот мотив реализуется тема смерти.
Промыслительное начало проявляется в предуказанности смерти Саши. О том, что Саша предчувствовала свою близкую смерть, говорит нам ее фраза: «Саша, она коснулась моей руки. – Мама рассказала не все, она не все знает. Я расскажу. Но не сейчас» [10, c. 106]. Но в последнем телефонном разговоре Саша настоятельно просила его на Пасху быть в церкви. И через сестру передала: «Нет, она очень просила, чтоб Вы приехали после Пасхи, сказала, что после Пасхи сразу излечится» [10, c. 106].
Саша чувствовала, что покинет этот мир и обретет жизнь вечную именно в Пасху. Поэтому ей было так важно, чтобы в этот день ее любимый был в церкви, а значит, рядом с ней и с Богом.
В борьбе между любовью и долгом, страстью и высотой духа девушка теряет последние силы. Сердце Саши Резвецовой, переполненное любовью, не выдерживает нагрузки – «обрывается». После смерти героини оставшийся один Саша в полном недоумении и отчаянии спрашивает: «Саша! Саша… а как же я?» Молодость острее чувствует трагическую связь любви и смерти, ведь ее отличает яркий максимализм. Поэтому герой ощущает себя абсолютно беспомощным, одиноким и покинутым. В одно мгновенье разрушилось все: любовь, надежды на будущее, мечты о семье и детях. Для чего же было встречать им друг друга?
Герой повести В. Крупина «Люби меня, как я тебя» Саша как личность, еще до конца не воспринявшая православия, не может принять смерть своей возлюбленной и смириться с ней.Он остается в полном опустошении, для него жизнь без любимой теряет смысл. И он еще не видит Божьего промысла.
Смерть Александры – и внезапная (для других), и предуказанная (для нее) смерть: душа была вынуждена покинуть свое тело, не успев исполнить многое из того, что могла бы, наверное, исполнить. Но все же ее смерть – «символичная», Саша Резвецова, встретив любовь на исходе недолгой жизни, выполнила главное свое предназначение: она помогла любимому человеку обрести истинный смысл жизни. Мотив Божьего промысла, символичность определяются в этой повести днем смерти девушки: Саша умерла на Пасху. Как мы знаем, Пасха в переводе с древнееврейского означает «переход». Поэтому смерть Саши – это лишь переход в мир иной, где душа, как Христос, воскресает для жизни вечной.
Мы не знаем, как сложится в дальнейшем судьба героя, но можем предположить, что счастье любви, которое было даровано ему, поможет избежать греха гордыни и уныния. Герою откроется православный смысл бытия, без которого нельзя понять и смысла человеческого существования.
Попытку дать разъяснение православного отношения к смерти предпринял сам В. А. Вейденгаммер, герой романа «Пути небесные» и реальный человек, дядя О. А. Шмелёвой (жены писателя). Будучи послушником Оптиной пустыни, Вейденгаммер узнает о смерти своей сестры, матери О. А. Шмелёвой. Пы- таясь поддержать племянницу, он пишет ей в письме: «Потерять мать, также любимого человека! Это такие факты, с которыми не может примириться ни ум, ни сердце, ни дух, ни тело: все болит и все протестует, и только вера в загробную жизнь, в свидание за гробом дает надежду на свиданье, а при вере и надежде! <…> остается только подождать… И это то время до желанного свидания, и надо прожить так, чтобы не совестно было встретиться “там”» [цит. по: 12, с. 10–11].
Любовь высшая, одухотворяющая и всепрощающая должна открыться после смерти любимой и герою повести В. Крупина. Ведь по христианской вере в смерти нет ничего «непоправимого»: личность не умирает, ибо душа – бессмертна, а душа и есть то, что мы называем личностью. Покидая тело, душа обретает вечную жизнь.
Саша Резвецова, зная о своей болезни и чувствуя приближение смерти, скорее всего, не ждала ее так рано. Автор почти ничего не рассказывает о последних днях героини и не показывает ее смерть. Он лишь упоминает о ней в строчке: «Саши не стало на земле…». Опять-таки – «на земле», но не вообще…
Счастье любить, дарованное героям повести В. Крупина, помогает найти им высший смысл человеческой жизни, обрести духовность. Саму же духовность можно осмыслить лишь на религиозном уровне. «Высшим критерием духовности является следование двуединой заповеди – любви к Создателю и Его творению – человеку» [5, c. 40].
Думаем, что и само название повести «Люби меня, как я тебя» метафорично. Если говорить о том, что Бог есть Любовь, то и слова, данные в заглавии, можно «расшифровать»: люби Иисуса Христа, как он любит тебя. Также можно говорить о том, что название повести – перифраз библейской заповеди «Возлюби ближнего своего как самого себя».
Таким образом, определив некоторые параллели в сюжетах этих произведений, показав православные традиции романа И. Шмелёва «Пути небесные» в повести В. Крупина «Люби меня, как я тебя», необходимо все же отметить, что поэтика, образные средства, используемые авторами, различны.
Так, если роман И. Шмелёва предназначается для внимательного чтения и осмысления сложных переплетений «путей земных» и «путей небесных» героев, то повесть В. Крупина читается на одном дыхании, и цель писателя достигается за счет динамичного развития действия и заключительного эффекта. Даже невоцерковленный читатель понимает, что умереть в Пасху – хорошо. В. Крупин воздействует «совпадениями», «чудесным» началом, которые лежат в основе публицистичности. Это достаточно эффективно действует в качестве убеждающей логики, хотя отчасти за счет глубокого психологизма. Используемый автором художественный арсенал заранее и целенаправленно как бы ограничивается поставленными задачами, которые В. Крупин сознательно углубляет с точки зрения жизненной, церковной, но не эстетической.
И. Шмелёв, наоборот, ставил перед собой очень сложные задачи, работая над «Путями небесными» как над духовным романом. Он сам признавался в письмах, что « должен закончить свой путь – закончить «Пути небесные», отчитаться перед русскими людьми. Я их завел, повел, вел… надо довести . <…> Я так хочу писать, мне надо же завершить главное – Пути, я хотел бы гимн Творцу пропеть в полный голос» [11].
Исследователь М. Дунаев отмечал в романе И. Шмелёва «свое образное образное видение реальности. Видение того, что составляет азы христианской антропологии: соединения в человеке «образа и подобия» и греховной поврежденности первозданной совершенной природы его. В Дариньке слишком резко проявляется конфликт между этими двумя противоположностями. Шмелёв осмысляет такой конфликт посредством субъективной образной системы» [6, c. 708].
Однако говорить о том, что повесть В. Крупина малохудожественна или непсихологична, нельзя. Мы лишь отметили одну из главных тенденций: глубокое взаимодействие художественно-эстетического и публицистического начал. Вспомним, ведь и о романе И. Шмелёва И. Ильин писал, что он «медленно развертывается в «житие» и в «поучение». <…> К художеству примешивается проповедь , творческий акт включает в себя элемент преднамеренности и программы, созерцание осложняется наставлением… » [8, c. 365] (курсив автора. – О. Б.).
М. Дунаев так комментирует приведенное высказывание И. Ильина: «Ильин верно указывает: роман Шмелева все более обретает черты совершенно иного типа осмысления и отражения мира, бытия: он «развертывается в житие и в поучение», преодолевающие то, что было неподвластно прежнему реальному мироотображению. И всегда бывает: при появлении нового метода, он, по инерции эстетических предпочтений, не воспринимается всеми и сразу. К непривычному еще нужно привыкнуть, и долгое время оно представляется вне-художественным, потому что художественность оценивается по сложившимся канонам, к новому методу не применимым» [12, c. 711].
Как видим, оба автора в своих произведениях показывают нам, что человека в жизни направляет высшее начало – невидимая
Поволжский педагогический поиск (научный журнал). № 2(2). 2012
рука промысла Божия, и для решения своих задач находят новый, индивидуальный, неповторимый художественный метод, используя различные образные средства, стилистические приемы.
Русская классика видела путь к человеческому благу через личное самосовершенствование каждого, она стояла на позициях недопустимости насилия по отношению к личности. Смысл жизни, поисками которого занимались герои русской литературы во все времена ее существования, составляет проблему и той русской современной прозы, которая обращается к социальным, этическим и нравственным сторонам жизни. С одной стороны, остаются все такими же актуальными «вечные» темы и «вечные» проблемы, все так же многие авторы находятся в поиске духовности. Но с другой – современная литература не может не эволюционировать. Она не просто повторяет классические традиции, но и развивает их, отражая в произведениях то, что существует на данный момент, останавливая мгновение, чтобы выявить новые штрихи времени.
Поволжский педагогический поиск (научный журнал). № 2(2). 2012
Список литературы В поисках духовности: художественное и публицистическое начала (на примере сопоставления романа И. Шмелёва «Пути небесные» и повести В. Крупина «Люби меня, как я тебя»)
- Гончаров И. А. Обрыв: в 2 т. М.: МИД «Синергия», 1996.
- Достоевский Ф. М. Преступление и наказание//Полн. собр. соч.: в 30 т. Л.: Наука, 1973. Т. 6.
- Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы//Полн. собр. соч.: в 30 т. Л.: Наука, 1976. Т. 14. Кн. I-X.
- Дунаев М. М. «.Почему пусто в человеческих душах?»//Православная беседа. 1993. № 3.
- Дунаев М. М. Православие и русская литература: в 6 ч. М.: Христианская литература, 1999. Ч. V.
- Зайцева Л. Е. Религиозные мотивы в позднем творчестве И. С. Шмелёва: дис.. канд. филол. наук. М., 1998. С. 119.
- Ильин И. А. О тьме и просветлении//Собр. соч.: в 10 т. М., 1996. Т. 6. Кн. 1.
- Крупин В. Н. Крестный ход. Самара: Самарское отд-ние Литфонда России, 1999.
- Крупин В. Н. Люби меня, как я тебя//Москва. 1998. № 9.
- Письма Р. Г. Зоммеринг от 24.09.1937 и 26.01.1944. Цит. по: Шмелёв И. С. Пути небесные//Собр. соч.: в 5 т. М.: Русская кн., 2001. Т. 5. С. 3.
- Шмелёв И. С. Пути небесные//Собр. соч.: в т. М.: Русская кн., 2001. Т. 5.