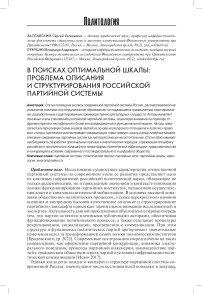В поисках оптимальной шкалы: проблема описания и структурирования российской партийной системы
Автор: Заславский С.Е., Лукушин В.А.
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политология
Статья в выпуске: 3 т.33, 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу современной партийной системы России, рассматриваемой как уникальное политико-институциональное образование, не поддающееся традиционным классификациям, разработанным и адаптированным преимущественно для западных государств. Авторы выявляют основные этапы становления российской партийной системы, акцентируя внимание на переходе от фрагментарной и нестабильной к более консолидированной и функциональной модели. Авторы предлагают альтернативную схему анализа партий на основе их ресурсного потенциала и политико-правового статуса, критически рассматривают традиционную «лево-правую» шкалу и иные линейные модели описания современных партийных систем как методологически несостоятельные. Статья обосновывает необходимость разработки оригинальных научных и аналитических подходов, отражающих специфику российского политического ландшафта и новые формы политической мобилизации, представительства и конкуренции в условиях современного постиндустриального и цифрового общества.
Партийная система, политические партии, партийные лиги, партийные шкалы, идеологии, многопартийность
Короткий адрес: https://sciup.org/170210349
IDR: 170210349 | DOI: 10.24412/2071-5358-2025-3-127-135
Текст научной статьи В поисках оптимальной шкалы: проблема описания и структурирования российской партийной системы
Однако когда речь заходит о контурах и структуре партийной системы современной России, значительное число исследователей попадают в ловушку, обусловленную давней методологической проблемой. Она заключается в использовании зарубежных объяснительных моделей и понятийного аппарата, изначально сформированных для описания западных либеральных политических систем в определенный исторический период их функционирования. Злоупотребление подобными концепциями в практической плоскости влечет за собой очевидные ошибки в интерпретации партийно-политических процессов и ограничение возможностей адекватного анализа их специфики. Упрощенное заимствование западных моделей, типологий партийных систем и идеологически детерминированной классификации политических партий приводит к концептуальной редукции сложной общественно-политической реальности, которая является следствием длительного цивилизационного развития российского государства. Нередко отечественная партийная система оказывается искусственно вписанной в рамки моделей и категорий, не способных отразить ее реальную природу как результат уникального историко-политического пути, наследия собственных демократических процедур, особой политической культуры и социального опыта.
Сознательное игнорирование этих факторов затрудняет построение корректной теоретической рамки, что, в свою очередь, обусловливает потребность в разработке альтернативных исследовательских подходов и аналитических моделей, основывающихся на понимании внутренней логики развития российской политической системы, ее культурных кодов и цивилизационных матриц, а также актуальных тенденций и вызовов для институционального развития политических партий и государства в целом. В настоящей статье представлено описание рассматриваемой научной проблемы, выделяются общие направления ее разрешения и перспективы дальнейшего научного поиска.
Этапы становления партийной системы и текущие тренды в ее развитии. Складывание партийной системы современной России представляет собой сложный и многоуровневый процесс, обусловленный сочетанием исторических традиций, социокультурных предпосылок и трансформаций политического системы. По сути, становление партийной системы в полной мере отражало строительство нового демократического государства со всей совокупностью проблем и рисков, возможностей и перспектив постсоветского периода [Дилигенский 1992]. Следовательно, партийная система не может пониматься в отрыве от общего вектора политического развития страны.
В процессе формирования партийной системы России можно выделить несколько ключевых периодов, каждый из которых вносил вклад в становление ее уникальной архитектуры, отражающей как элементы формального институционализма, так и значительное влияние неформальных структур и властных практик. Вопросы отечественного партогенеза и хронологии развития партийной системы являются довольно разработанными в политической науке, а многие элементы находят консенсусные оценки в академическом и экспертном сообществах [Лепехин 1992; Левчик, Заславский 1995].
Исходной точкой формирования современной партийной системы стал период политической либерализации конца 1980-х – начала 1990-х гг., ознаменовавшийся распадом Советского Союза и крушением монопольного положения КПСС. Как известно, кризис однопартийной системы в сочетании с проводимыми демократическими реформами способствовали росту гражданской активности, возникновению неформальных объединений и первых политических движений, критически настроенных по отношению к коммунистической монополии. На рубеже десятилетий началась регистрация первых политических партий. В это же время была предпринята попытка легализации многопартийности как нормативного института политического процесса. Однако данная стадия партогенеза характеризовалась высокой степенью фрагментации, отсутствием устойчивых идейных платформ, а также значительным влиянием конкретных политиков на формирование и жизнеспособность новых объединений. Партизация политического пространства шла сверху вниз и не сопровождалась формированием устойчивых каналов связи между партиями и обществом. Иными словами, становление партийной системы происходило в условиях институциональной нестабильности, поскольку в обществе сохранялся вакуум между гражданами, партиями и государством при отсутствии адекватной системы управления, нормативно-правовой базы, а также устоявшихся электоральных процедур.
Конфликт между исполнительной и законодательной ветвями власти, кульминацией которого стал конституционный кризис 1993 г., оказал существенное влияние на партийный ландшафт. Партии в этот период продолжали существовать как преимущественно электоральные проекты, слабо институционализированные, подверженные влиянию элитных группировок и нередко выполнявшие функцию лоббистских структур. На протяжении 1990-х гг. партийная система России сохраняла признаки нестабильной многопартийности с высокой степенью электоральной волатильности [Тимошенко, Салыков 2017]. На политической арене действовало значительное число партий, но ни одна из них не обладала устойчивой массовой поддержкой и организационной прочностью. В парламенте формировались фракции, порой не совпадавшие по составу с партиями, которые выдвигали кандидатов на выборах. При этом данный период предопределил формирование системного института представительства и включил в себя легитимацию партийной системы после первых выборов в Государственную думу. Это позволило провести первичное структурирование и упорядочение партий, которые из хаотичного и весьма атомизированного состояния выстраивали контуры многопартийной системы [Заславский 2020].
Начало нулевых годов ознаменовалось качественным изменением в структуре и логике партийной системы, связанным с курсом руководства страны на политическую централизацию и стабилизацию. В этих условиях формируется концепт партийного центра, а вместе с ним – становление партии власти и партийной системы с ярко выраженным доминирующим игроком. Центризм подразумевался как механизм поддержания равновесия системы политических отношений, столь необходимый для государства, решающего задачи стабилизации и перехода к росту во всех отношениях. О тенденции к центризму говорилось не только как о «модном» лейбле, но и в контексте вполне конкретного содержательного наполнения [Громов 2005]. Центристы понимались как сплоченная политическая сила, поддерживающая государственный курс на реформы, но реформы постепенные, созидательные, реализуемые исключительно в интересах российского общества.
Принятие обновленного федерального законодательства о политических партиях является ключевой вехой данного периода, поскольку определило их в качестве единственной разновидности общественных объединений, имеющих право участвовать в выборах. Очевидно, что повышение политической роли и статуса партий требовали сопутствующего увеличения законодательных требований к ним. Этот процесс сказался на числе официально существующих партий, их число постепенно уменьшалось: 46 – в 2004 г., 15 – в
2007 г., 7 – в 2009 г. Уменьшение числа партий происходило не только посредством ликвидации, но и за счет преобразований в общественные движения, а также слияния или вхождения в состав более крупных партий. Таким образом, партийный спектр сузился количественно, но не идеологически. Партии предоставляли гражданам достаточно разнообразные политические предложения, сохранив темпы электоральной активности и обеспечив высокий уровень конкуренции этих предложений в обществе. Централизация партийной системы происходила вслед за аналогичными процессами в системе государственного управления, отражая органический и объективный характер данных политических изменений [Володина 2015].
В 2010-х гг. происходит новый цикл развития партийной системы, связанный с либерализацией законодательства в ответ на общественный запрос и объективную необходимость партийно-политического обновления. В этот период партии получают несколько большие возможности, и число официально зарегистрированных партий вслед за этим увеличивается. Закономерным результатом этого периода является переход от четырехпартийной к пятипартийной системе с сохранением статуса партии власти как системообразующего игрока по результатам парламентских выборов 2021 г. [Лукушин 2021]. Продолжался процесс поиска оптимальной модели состязательности партий и обеспечения политического представительства. Одновременно партийная система начала накапливать ресурсы и способность к саморегулированию, что выразилось также в ослабевании ее зависимости от внешних факторов и большей структурированности. На текущий момент можно говорить о развитии нескольких основных тенденций в развитии отечественной партийной системы:
-
1) выход партийной системы на естественное плато развития, связанный с самостоятельным избавлением от неэффективных игроков, систематически не участвующих в выборах и/или нарушающих требования избирательного законодательства, а также укрепление тех партий, которые успешно показали себя в предыдущих электоральных циклах;
-
2) достижение устойчивости и стабильности партийной системы в качестве эффективного ответа на внешние и внутренние вызовы, появление своеобразного запаса прочности;
-
3) формирование патриотического консенсуса, в котором абсолютное большинство игроков находятся внутри: патриотическая повестка не просто встроена в повестку партий, но и создает новое пространство их конкуренции.
Таким образом, эффективное число партий, выраженное в участии в выборах различного уровня, достигает максимальных значений. По состоянию на март 2025 г. из 23 официально зарегистрированных политических партий 20 партий обеспечили выдвижение своих кандидатов на выборах различного уровня в ходе последнего Единого дня голосования (доля активных партий – 87%). В сравнительном ключе данный показатель значительно вырос за последние годы: 2018 г. – 54%, 2019 г. – 52%, 2020 г. – 57%, 2021 г. – 41%, 2022 г. – 55%, 2023 г. – 67%1. Политическая состязательность политических партий в текущих условиях не нейтрализована, напротив, укрепляются основные линии конкуренции и появляются новые, обусловленные актуальной повесткой и трансформацией электоральных запросов и ожиданий россиян. Текущие
«правила игры» способствуют активизации партий на выборах, в ином случае происходит снижение их жизнеспособности и неминуемая гибель.
Подходы к группировке партий и структурированию партийной системы. Важным аспектом анализа партийной системы является вопрос группировки политических партий, включающий выработку классификационных признаков и критериев структурирования основных акторов. Ранее авторы статьи предлагали подход игровых лиг и дивизионов для описания структуры российской партсистемы и особенностей межпартийного взаимодействия. Данный подход подразумевает объединение партий в укрупненные лиги и внутренние дивизионы, основным критерием выделения которых является текущий политико-правовой статус, характеризующий ресурсную базу, реальные электоральные возможности и потенциал общественного влияния [Заславский 2021].
В общем виде подобное структурирование выглядит следующим образом. Высшая лига состоит из парламентских партий, которые непосредственно принимают участие в выработке и реализации государственной политики. Первая лига – большие игроки, политическое влияние которых менее значимо, однако их ресурсный и электоральный потенциал значителен в силу освобождения их от сбора подписей в поддержку кандидатов и списков кандидатов на парламентских выборах, предоставленного избирательным законодательством. Эти партии представлены в политической жизни регионов и муниципалитетов зачастую довольно значительным образом. Вторая лига – буферный уровень, включающий партии, которые могут участвовать в региональных выборах без сбора подписей (хотя бы в одном регионе). К этой лиге также можно отнести партии, имеющие в составе региональных заксобраний своих кандидатов, избранных по мажоритарным округам, хотя сам по себе данный факт не приносит партиям значимых преференций. Третья лига – партии, выполняющие требования, необходимые для участия в выборах, но не достигшие успеха ни на федеральном, ни на региональном и местном уровнях, однако сохраняющие свой формальный статус.
Практическая применимость данной модели, равно как и любых схожих, обусловлена ее нетривиальным взглядом на отечественный партийный спектр, исключающий линейный подход и жесткую привязку к идеологическим характеристикам партий. Многие подходы к группировке и сегментации партий продолжают опираться преимущественно на традиционный принцип, предполагающий наличие устойчивых доктринальных позиций и программной определенности у партийных акторов [Jahn 2023]. Как уже было отмечено, в современном политическом контексте такой подход представляется ограниченным и нередко приводит к искаженной картине партийного поля. В эпоху постепенного размывания классических политических идеологий, доминирования «всеохватных» партий, а также перерождения электорального популизма использование одномерного идеологического критерия для группировки партий, и далее – структурирования партийной системы представляется ошибочным.
Шкала «левые – правые», традиционно используемая для описания партийных систем в политической науке, оказывается в значительной степени неприменимой к анализу современного партийного спектра, что обусловлено как специфическими чертами отечественного партогенеза, так и глубоким кризисом самой этой дихотомии в глобальном контексте [Grant 2023]. Лево-правая шкала оказывается девальвированной по отношению к реальному политическому процессу, практической деятельности и струк- турным механизмам современных партий. В российской реальности политические партии редко выстраиваются в соответствии с классическим делением, поскольку не обладают устойчивыми программными установками и не являются носителями конкретных доктринальных мировоззрений, что во многом уже не характерно для партийных акторов в большинстве мировых государств [Скиперских 2021]. При этом в России подобная модель никогда не существовала, поскольку ни дореволюционные, ни советские, ни постсоветские политические партии не соответствовали этой шкале, следовательно, она является чуждой для отечественной партсистемы [Блинов 2021]. Обращение к постсоветскому опыту также не имеет достаточных оснований, поскольку множественные партии и протопартийные проекты 1990-х гг. существовали в глубоко атомизированном и хаотичном пространстве, являясь одновременно его производными. Они отражали сложность построения новой демократической политической системы, многослой-ность общественно-политического дискурса и высочайшую динамику институциональных изменений.
Многие партии в современный постиндустриальный период объединяют в себе элементы, традиционно относимые к противоположным идеологическим полюсам, что делает их позиционирование по шкале «левые – правые» крайне формальным и произвольным [Холодковский 2006]. Так, ряд партий, декларирующих левую риторику, фактически поддерживают статус-кво и демонстрируют консервативную социальную повестку, тогда как формально правые объединения прибегают к популистским практикам и лозунгам. Программные документы современных партий зачастую не соответствуют их практической линии. Отсутствие у большинства партий прочной социальной базы приводит к тому, что идеологическая самоидентификация утрачивает функциональную значимость и заменяется адаптивной риторикой в условиях политической конъюнктуры [Жигадло 2023]. Более того, сама «лево-правая» дихотомия в последние десятилетия переживает глубокий кризис и в западной политической науке: с ростом постматериалистических ценностей, кризисом традиционных классовых структур, характерных для раннего индустриального общества, с усилением персоналистской политики идеологическое пространство партий становится все более фрагментированным и ситуационно обусловленным. Новые политические разломы проходят по иным осям: глобализм – суверенизм, элитаризм – популизм, традиционализм – прогрессизм, что еще более подрывает универсальность лево-правого континуума. В этом контексте использование линейной модели для анализа российской партийной системы не только не отражает реальную структуру политических предпочтений и политических акторов, но и препятствует выработке адекватных исследовательских инструментов, способных связывать специфику отечественной политической среды, ее уникальные механизмы власти и представительства.
Заключение и исследовательские перспективы. Таким образом, партийная система современной России представляет собой уникальное образование, характеризующееся многопартийностью, развитием центристских и консолидационных тенденций, а также особым характером состязательности ключевых акторов, основывающимся на разнице интересов, мотиваций и ресурсных позиций партий. Становление отечественной партийной системы происходило под влиянием комплекса факторов – от исторического наследия отечественной политической культуры до институциональных реформ и изменений в правовом регулировании.
В настоящее время возникает необходимость перехода к альтернативным способам группировки партий и структурирования партийного поля, корректно отражающим их функциональную и институциональную природу и позволяющим уйти от искусственной и зачастую неработающей линейной схемы, приблизиться к более реалистичному описанию политической архитектуры современной России, где партии конкурируют в условиях не столько доктринального многообразия, сколько институционально асимметричной политической среды, задающей принципы их взаимодействия, выживания и адаптации. Линейные модели партийных систем, в т.ч. традиционная лево-правая шкала, находятся в глубоком кризисе с учетом потери связи с реальной политической практикой, проблемой несоответствия декларируемых идей и установок практической программе действий большинства партий.
Вариации различных двухмерных шкал, которые могли бы прийти на смену «лево-правой» модели по отношению к российской партийной системе, должны стать предметом глубокого анализа. В частности, не меньше вопросов и затруднений вызывают шкалы «западники – государственники», «либералы – социалисты», «индивидуалисты – коллективисты» и пр. Подобный упрощенный подход к структурированию партийной системы является морально устаревшим и не соответствующим действительности.
В качестве перспективных моделей, имеющих бóльшие основания для развития в политической науке и аналитике, предлагаются различные вариации многомерных шкал, основывающихся не на доктринально-идеологических, а скорее на ценностно-мировоззренческих позициях. При этом сама по себе идеология остается важным элементом общественно-политической жизни и сохраняет актуальность для партийной системы. Отечественные партии заметно усиливают работу по адаптации своих электоральных стратегий, идейных программ и методов работы в ответ на новые социальные, экономические и технологические вызовы. Перспективным также представляется анализ и рейтингование программных документов политических партий [Жичкин 2022].
Предложенный авторский подход позволяет учитывать смысловые доминанты и образы прошлого, настоящего и будущего, формируемые политическими партиями, которые не являются настолько устойчивыми и имеют свойство корректироваться под влиянием внутренних и внешних факторов. При этом использование многомерных шкал требует проведения масштабного анализа программных документов партий, формируемого публичного дискурса, информационных потоков, практических резолюций и актуальной партийной повестки с целью поиска соответствий и размежеваний.