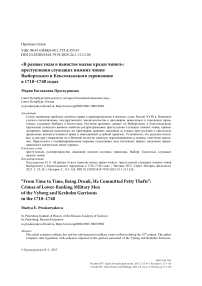"В разные годы в пьянстве малые кражи чинил": преступления служащих нижних чинов Выборгского и Кексгольмского гарнизонов в 1710-1740 годах
Автор: Проскурякова М.Е.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Российская история
Статья в выпуске: 1 т.24, 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблеме военного права и правоприменения в военных судах России XVIII в. Внимание уделено сопоставлению государственного законодательства и приговоров, вынесенных в отношении гарнизонных служащих Выборга и Кексгольма. Изучение архивных данных по Выборгскому и Кексгольмскому гарнизонам позволило выявить наиболее распространенные преступления служащих нижних чинов, проанализировать характер вынесенных им приговоров, сравнить наказания за схожие преступления и проследить применение военно-уголовного права в повседневной судебной практике. Установлено, что решения полковых судов при утверждении их в Военной коллегии зачастую пересматривались в сторону смягчения наказания. Параллельно с кодифицированными нормами существовал свод неписаных правил, ежедневно применявшихся и значительно менее суровых.
Преступления, судопроизводство, наказания, военное сословие, гарнизоны, выборг, кексгольм, служащие нижних чинов
Короткий адрес: https://sciup.org/147247127
IDR: 147247127 | УДК: 94(47).05/065+911.375.4:355.47 | DOI: 10.25205/1818-7919-2025-24-1-113-126
Текст научной статьи "В разные годы в пьянстве малые кражи чинил": преступления служащих нижних чинов Выборгского и Кексгольмского гарнизонов в 1710-1740 годах
,
,
Исследование посвящено практике применения норм военно-уголовного законодательства в русской армии 1710–1740 гг. и продолжает серию статей, посвященных преступлениям служащих Выборгского и Кексгольмского гарнизонов и вынесенным им наказаниям [Проскурякова, 2012; 2014]. В течение 2000-х – начала 2020-х гг. российскими специалистами было опубликовано несколько работ по проблеме военного права и правоприменения в военных судах XVIII в. Внимание историков оказалось привлечено к несоответствию законов, принятых по воле Петра I против преступлений военнослужащих, и выносимым в судах приговорам. По закону беспощадно карались даже самые незначительные проступки военных. Однако ревизионно-решающий порядок рассмотрения дел вносил существенные коррективы в характер приговоров. Решения полковых судов при утверждении их в Военной коллегии зачастую пересматривались в сторону смягчения наказания.
Одно из первых исследований, в котором был описан данный феномен, принадлежит Б. А. Азнабаеву. Его статья посвящена правонарушениям дворян, служивших в Оренбургском корпусе в 1743–1802 гг. Автору удалось показать, что военные судьи в своей практике отказались от санкций законодательства. Б. А. Азнабаев предположил, что такое отступление от норм закона произошло с течением времени, после 1720-х гг. [Азнабаев, 2004, с. 114]. Другая значимая работа о преступлениях офицеров вышла в 2011 г. В центре внимания Е. М. Лупановой оказался офицерский корпус русского флота второй половины XVIII в. [Лупанова, 2011]. По сути, ее выводы о невозможности применения на практике законодательных норм в силу их суровости подтвердили выводы, сделанные ранее Б. А. Азнабаевым. По мнению Е. М. Лупановой, большое количество преступлений и дефицит кадров заставили военных судей изменить и облегчить санкции на уровне принятия конкретного решения. Также девиантному поведению военнослужащих, следственным практикам и процедурам судопроизводства посвящены работы последних лет А. В. Дмитриева [2018; 2020а; 2020б; 2021] и Д. А. Письмак [2022]. Историки на основании анализа богатого архивного материала пришли к заключению о том, что приговоры полковых судов в воинских частях Сибирского корпуса второй половины XVIII в. принимались исключительно на основе норм права. В то же время Военная коллегия, обладая определенной свободой действий, выносила решения, не соответствующие букве закона [Там же, с. 148]. Здесь военные власти руководствовались соображениями служебной необходимости и практической целесообразности, что, по мнению А. В. Дмитриева, придавало системе военного правосудия гибкость [Дмитриев, 2018, с. 82].
Несмотря на то что проблема правоприменения обсуждается в современной научной литературе, абсолютное большинство работ посвящено второй половине XVIII в. и зачастую офицерскому корпусу, в то время как правоприменение в первой половине того же века по-прежнему остается малоизученной темой. В настоящей статье на основании анализа комплекса архивных документов проведено системное сопоставление законодательства с приговорами полковых судов и решениями, принятыми в отношении этих приговоров Военной коллегией. Внимание сосредоточено на преступлениях и дисциплинарных проступках унтер-офицеров, солдат и нестроевых нижних чинов.
Наиболее значимыми источниками для исследования являются военные законы царя Петра: первый в России Военно-процессуальный кодекс («Краткое изображение процессов или судебных тяжеб…») (ПСЗ-I, 1830, т. 5, № 3006, с. 382–411) и первый кодекс о преступлениях и наказаниях военнослужащих – Артикул воинский [Российское законодательство, 1989, с. 327–265]. Согласно данным, полученным Д. О. Серовым, самая ранняя публикация Военно-процессуального кодекса относится к 1712 г., а Артикула воинского – к 1714 г. [Серов, 2013]. Внедрение уложений в судебную практику России тесно связано с переходом государства к регулярной армии и созданием военного сословия. Эта трансформация потребовала наличия специфических правовых норм. Прежнее российское законодательство не соответствовало новым задачам государства.
Военно-процессуальный кодекс 1712 г. был издан в новой редакции в 1715 г. Он регулировал военное судопроизводство и судебный процесс. Следствие (фергер) начиналось с проверки фактов преступления и возглавлялось аудитором. Аудитор был должностным лицом, имевшим необходимые юридические познания для расследования преступлений. По окончании расследования аудитор выносил постановление о передаче материалов в суд (кригсрехт). Состав полкового кригсрехта включал в себя председателя (презуса), шесть заседателей, аудитора и секретаря. Место председателя обычно занимал командир полка, а остальные офицеры получали места заседателей. Аудитор не имел голоса при принятии решений в суде и лишь надзирал за законностью приговора. Решения полкового кригсрехта выносились на основе норм Артикула воинского. Окончательная редакция этого свода военно-уголовных законов появилась в 1715 г. Акт содержал перечень военных преступлений и наказаний за них. Важнейшей особенностью русской военной судебной системы того времени было утверждение (конфирмация) судебных решений. Принципиальное значение для формирования в России этой системы имел императорский указ от 3 марта 1719 г. [Серов, 2008, с. 105]. Ревизионно-решающей инстанцией для полковых судов стал генеральный кригсрехт. В нем в качестве судей выступали высшие армейские командиры. Указ требовал направлять каждый приговор генералитета на утверждение. После утверждения высшим генералитетом приговоры направлялись на рассмотрение в Военную коллегию.
Результаты исследования основаны на анализе комплекса неопубликованных источников. Их можно разделить на три основные группы: 1) переписка командующего гарнизонными войсками на Карельском перешейке с центральными властями 1; 2) следственные дела и судебные приговоры, которые отложились как в материалах Выборгской провинциальной канцелярии (1722) 2, так и в документах Аудиторской экспедиции Канцелярии Военной Коллегии (1710–1730-е гг.) 3; 3) смотровые списки служащих гарнизонных полков с данными о правонарушениях и приговорах (за 1733, 1735, 1740) 4.
В данной работе особое внимание уделено сопоставлению государственного законодательства и приговоров, вынесенных в отношении гарнизонных служащих Выборга и Кекс-гольма. Хронологические рамки исследования ограничены концом 1710-х – 1740 г., когда два основных акта военного права – Военно-процессуальный кодекс и Артикул воинский – только вводились в юридическую практику. Изучение данных по Выборгскому и Кексгольмско-му гарнизонам позволило выявить наиболее распространенные преступления, рассмотреть характер наказаний, применявшихся к служащим гарнизонов, сравнить наказания за схожие преступления и, наконец, проследить применение военно-уголовного права в повседневной судебной практике. Гарнизон Выборга включал в себя три полка, а гарнизон Кексгольма составлял батальон (в 1732 г. батальон был развернут в полк). Общая численность служащих местных гарнизонов в период с 1710 по 1740 г. выросла с трех тысяч до пяти с половиной тысяч человек.
Материалы названных выше источников содержат сведения более чем о 300 преступлениях унтер-офицеров и рядовых. Выявлены сведения о 206 побегах, пяти случаях умысла на совершение побега, двух случаях подстрекательства к побегу и одном факте неявки на службу в установленный срок. Данный вид преступлений следует считать наиболее распространенным противоправным деянием служащих нижних чинов [Проскурякова, 2014]. На втором месте по числу эпизодов находятся преступления, совершенные из корыстных побуждений (49 случаев). К этой категории преступлений отнесены кражи, скупка и заклад краденого имущества. Далее следуют правонарушения дисциплинарного характера: винокурение, виноторговля («корчемство»), «слабая команда» и пьянство. Общее число выявленных правонарушений такого рода составляет 44 случая. Значительно меньшее распространение получили преступления, связанные с ложным доносом или составлением поддельных документов. В рамках исследования были установлены факты по 18 таким эпизодам, и большинство из них касалось инцидентов по предоставлению властям ложных сведений, чаще всего в отношении сослуживцев. Наконец, меньше всего данных об особо тяжких преступлениях, таких как убийства и преступления на сексуальной почве. Всего удалось выявить четыре эпизода, связанных с покушением на жизнь, и три случая преступлений на сексуальной почве (табл. 1).
Таблица 1 Правонарушения служащих нижних чинов в 1710–1740 гг.
Table 1
The Offences of Lower-Ranking Personnels in 1710–1740
|
Вид преступления |
Преступление |
Количество |
|
Дезертирство |
Побег |
206 |
|
Умысел к побегу / подстрекательство к побегу |
7 |
|
|
Неявка на службу |
1 |
|
|
Преступления для извлечения материальной выгоды |
Кража |
45 |
|
Скупка краденого |
3 |
|
|
Операция с закладом |
1 |
|
|
Дисциплинарные правонарушения |
Винокурение и корчемство |
23 |
|
«Слабая команда» |
15 |
|
|
Пьянство |
2 |
|
|
Доносы и подлоги |
Ложный донос |
16 |
|
Составление подложного документа |
2 |
|
|
Тяжкие преступления |
Убийство / самоубийство |
4 |
|
Преступление на сексуальной почве |
3 |
|
|
Всего |
328 |
|
Среди преступлений, совершаемых служащими нижних чинов, на втором месте по числу случаев находятся кражи. Совершались кражи казенного и полкового имущества, кражи у обывателей, кражи у сослуживцев, кражи церковного имущества, грабежи. Власти предвидели возможность широкого распространения преступлений такого рода. В Артикуле воин- ском 21-я глава «О зажигании, грабительстве и воровстве» из 18-ти статей (статьи со 178 по 195) была посвящена кражам и грабежу (Российское законодательство, 1989, с. 361–363).
В документах выявлены данные о 16 эпизодах совершения краж государственного и полкового имущества. Чаще всего объектом кражи становилось недорогое казенное имущество. Солдат Шувалова полка Матвей Агафонов 17 августа 1725 г. нарушил правила несения караульной службы и совершил кражу 5. Согласно его показаниям, он получил от капрала разрешение сходить в казарму и взять хлеб. Возвращаясь на пост, солдат увидел в окне одной из кладовых палат полковой артиллерии крюк («крюк железной, чем бомбы вытаскивают») 6. М. Агафонов украл и спрятал крюк, намереваясь впоследствии продать. Во время суда стало известно, что солдат покинул караул без разрешения капрала, поэтому М. Агафонову предъявили обвинение как в краже из артиллерии, так и в незаконном оставлении караула. Согласно Артикулу, эти преступления заслуживали высшей меры наказания. Статья 191-я провозглашала, что хищение из артиллерии должно караться повешением, а статья 192-я требовала смертной казни для любого, кто покинул караул и совершил кражу (Российское законодательство, 1989, с. 362) 7. Выборгский обер-комендант Иван Максимович Шувалов направил 23 октября 1725 г. в Военную коллегию доношение и экстракт из фергера и кригсрехта с решением о смертной казни. Уже 15 декабря 1725 г. Военная коллегия постановила заменить повешение солдата троекратным прогоном сквозь строй шпицрутенами и ссылкой на каторгу на три года. Члены Коллегии смягчили наказание из-за низкой стоимости украденного крюка и непричастности солдата к преступлениям в прошлом: «…понеже он преж сего служил беспорочно и та кража не великой важности, к тому ж оное краденое им в целости назад возвращено» 8.
Нередко жертвами краж, совершенных служащими нижних чинов, становились городские обыватели или товарищи по службе. Среди похищенных предметов в разные годы были зарегистрированы чулки, штаны, шапка, сукно для военной формы, лоскуты форменного сукна, чехол для барабана. В материалах по штатному составу гарнизонов удалось найти сведения о четырех случаях краж у выборгских купцов и прибывших в крепость иноземцев. Так, в 1729 г. мушкетер Козьма Коновалов украл у посадского 40 руб. 9 В 1735 г. капрал Матвей Кругляков был обвинен в краже хрустальной посуды у неизвестного 10.
Интересна биография барабанщика Выборгского гарнизона Авдея Опочинина, привлекавшегося к суду по обвинению в совершении пяти краж. Служивший с 1703 г., барабанщик впервые совершил преступление в Дубках, украв муку у маркитантов. Во второй раз он украл муку в Выборге у местного жителя. В следующий раз А. Опочинин ограбил в Выборге иноземца, взяв у него шубу. Все преступления барабанщик совершал в состоянии алкогольного опьянения, и всё похищенное было возвращено владельцам. За третье преступление его приговорили к наказанию батогами 11. Четвертую кражу А. Опочинин совершил 31 мая 1725 г. Будучи пьяным, он проходил мимо двора выборгского жителя мещанина Класа Вегера и увидел привязанную к «городьбе» лошадь с прикрепленными к седлу двумя пистолетами. А. Опочинин забрал пистолеты. Лошадь принадлежала шведскому офицеру Георгию Отто, только что прибывшему в Выборг. Свидетелем кражи стал служитель Г. Отто Яган Питерсон. Он задержал вора и передал его караульным на гауптвахту 12. По статье 191-й, военнослужащие, совершившие кражу в четвертый раз, должны были быть наказаны повешением. Именно эта мера пресечения названа в приговоре полкового суда А. Опочинину, состоявшегося в августе 1725 г.: «И по криксрехту презеса <…> капитана Хотяинцова и асе- соров приговорено вышеписанному барабанщику Авдею Опоченину за кражу королевского величества швецкого у оборстер-лейтнанта Георгия пистолетов одной пары, с которыми он, Опоченин, пойман служителем ево Яганом Питерсоном, по военному Артикулу 191 учинить ему смертную казнь, повесить, понеже-де он <…> допросом своим объявил, что и прежде в разных годех в пьянстве малые кражи чинил» 13. 25 октября 1725 г. Военная коллегия отменила казнь из-за незначительности всех совершенных краж и возвращении украденного владельцам. Барабанщика наказали троекратным проходом сквозь строй в тысячу человек под ударами шпицрутенов. Впоследствии А. Опочинин продолжал служить, нарушая закон 14. В 1728 г. он украл штаны у капрала Выборгского гарнизонного полка Репникова, за что был вновь наказан шпицрутенами 15.
Еще два случая касались кражи церковного имущества в Нейшлоте и Кексгольме в 1721 г. Во время происшествия Нейшлот всё еще находился под контролем русского военного контингента. Служащие трех Выборгских гарнизонных полков обеспечивали охрану этой крепости, направляя в нее на службу по несколько десятков человек 16. Одной из главных обязанностей военных в крепости Нейшлот была караульная служба, в том числе охрана церквей. 31 января солдату Карпова полка Максиму Давыдову было приказано нести караул у церкви. Однако он покинул пост, вошел в церковь и взял из алтаря церковные и солдатские деньги. Общая сумма похищенного составила 28 руб. 17 Завладев деньгами, солдат раздал их небольшими суммами товарищам на хранение под видом личных сбережений 18. Полковой суд приговорил М. Давыдова к смертной казни по статьям 186 и 192 (Российское законодательство, 1989, с. 362). Статья 186-я требовала смертной казни для любого, кто ограбит церковь, а статья 192-я предусматривала повешение служащего за оставление караула и совершение кражи.
Аналогичные обвинения были предъявлены солдату Кексгольмского батальона. 30 июня 1721 г. Григорий Тихонов покинул караул у церкви в Кексгольме и ограбил ее. Он взял из опечатанного ящика два рубля церковных и поповских денег 19. Приговор по этому делу полностью соответствовал приговору суда над М. Давыдовым. Согласно нормам статей 186-й и 192-й, Г. Тихонов должен был быть казнен 20. Приговоры М. Давыдову и Г. Тихонову власти Выборга отправили в Военную коллегию для конфирмации. В феврале 1722 г. императорский указ отменил для них смертную казнь и заменил ее ссылкой в Сибирь 21. Вероятнее всего, причиной для столь сурового приговора стало совершение солдатами двух преступлений одновременно: самовольное оставление караула и кража церковного и казенного имущества.
Итак, по делам о четырех кражах 1721–1725 гг. удалось выявить данные о приговорах как полкового суда, так и Военной коллегии. Во всех четырех случаях полковые офицеры приговорили виновных к смертной казни по законодательной норме. И во всех четырех случаях казнь была отменена. В трех из четырех случаев служащие были виновны в оставлении караула и краже. Все трое были приговорены к ссылке на каторгу, но солдат М. Агафонов, виновный в краже из артиллерии, получил двойное наказание: шпицрутены и каторга. В то же время барабанщика А. Опочинина, виновного в совершении кражи в четвертый раз, приговорили только к шпицрутенам, как и в случае совершения им пятой кражи в 1728 г. Таким образом, прослеживается система в вынесении Военной коллегией определенных приговоров по определенным видам преступлений: уход с караула и совершение кражи карались ссыл-
кой; уход с караула и совершение кражи из артиллерии – шпицрутенами и ссылкой; четвертая и пятая кражи – шпицрутенами (табл. 2).
Таблица 2
Приговоры полкового суда и Военной коллегии по делам о кражах в 1720-е гг. *
The Sentences of the Regimental Court and the College of War on the Cases of Theft in the 1720s
Table 2
|
Чин и имя |
Год и вид деяния |
Наказание по Артикулу воинскому |
Приговор полкового кригсрехта |
Приговор Военной коллегии |
|
Солдат Максим Давыдов |
1721 г. Кража церковного имущества |
Статья 186: Смертная казнь |
1721 г. Смертная казнь |
1722 г. Ссылка на каторгу |
|
Оставление караула |
Статья 192: Смертная казнь |
|||
|
Солдат Григорий Тихонов |
1721 г. Кража церковного имущества |
Статья 186: Смертная казнь |
1721 г. Смертная казнь |
1722 г. Ссылка на каторгу |
|
Оставление караула |
Статья 192: Смертная казнь |
|||
|
Солдат Матвей Агафонов |
1725 г. Кража из артиллерии Оставление караула |
Статья 192: Смертная казнь |
1725 г. Смертная казнь |
1725 г. Шпицрутены; ссылка на каторгу на три года |
|
Барабанщик Авдей Опочинин |
1725 г. Четвертая кража |
Статья 191: Смертная казнь |
1725 г. Смертная казнь |
1725 г. Шпицрутены (3 раза) |
* Сост. по: РГВИА. Ф. 8. Оп. 1. Д. 161, 165; Ф. 490. Оп. 1. Д. 54. 100 об. – 101; KA. VeSa. Nrot. 2996. F. 92–92v, 101–102v.
Нередко преступления совершались военнослужащими в нетрезвом состоянии. В конце февраля 1737 г. петербургские власти организовали инспекцию Выборга и Кексгольма с целью выявления случаев незаконного винокурения и виноторговли. В феврале – марте того года проверяющим удалось установить, что выборгскую виноторговлю вели солдаты, их жены, солдатские вдовы, а также отставные служащие. Непосредственно в солдатских квартирах Выборга работало пять кабаков 22. По итогам инспекции майор лейб-гвардии Преображенского полка И. И. Альбрехт установил вину в незаконном промысле семерых унтер-офицеров и рядовых Выборгского гарнизона 23. По приговору генерала А. И. Ушакова те из них, кто участвовал и в винокурении, и в торговле вином, были приговорены к прогону сквозь полковой строй шпицрутенами (по пять раз) и штрафу в пять рублей. Унтер-офицеров также разжаловали в солдаты до выслуги 24.
В Кексгольме военнослужащие скупали вино у жителей уезда и затем перепродавали в трактирах («корчемство»). И. И. Альбрехт выявил девятнадцать случаев содержания кабаков в квартирах унтер-офицеров и солдат Кексгольмского гарнизонного полка 25. По показаниям местных, некоторые кабаки работали давно. Например, солдат Ананья Сума держал трактир на протяжении четырех лет: «Допросом показал, шинок он имеет у себя тому года с четыре и вино продавал даже сего 737 году Великого посту по первую неделю» 26. Жена другого солдата – Клима Медведева – Маланья Никитина дочь нелегально торговала вином на протяжении двух лет: «Допросом показала, шинок-де она у себя имела года з два и вино продавала до первой недели сего 737 году Великого поста, а муж ее обретается в Смоленску для приему рекрут 736 году декабря з 24 дня и про ту продажу не ведал» 27. И. И. Альбрехт обвинил шестнадцать человек в приобретении спиртных напитков у жителей уезда и незаконной перепродаже вина. Лейб-гвардии майор включил в число виновных сержанта Андрея Воробьева, капрала Ефима Шептунова и капрала Семена Иванова, одиннадцать солдат, барабанщика и флейтиста 28. По решению генерала А. И. Ушакова унтер-офицеры были приговорены к наказанию шпицрутенами и разжалованию в солдаты, тогда как остальные служащие были наказаны только шпицрутенами 29. Ни в приговоре служащим Выборгского гарнизона, ни в приговоре служащим Кексгольмского гарнизона нет ссылок на законодательную норму, на основании которой выносилось решение. В самом Артикуле воинском не содержится отдельной статьи о винокурении и корчемстве: пьянство упоминалось лишь как отягчающее вину в ином преступлении обстоятельство, а также как последствие «слабой команды» со стороны старших чинов (Российское законодательство, 1989, с. 336). Однако наказание, вынесенное за винокурение и виноторговлю в 1737 г., обосновали так: «Понеже всякое пьянство, зернь и корчемство в великия слабости, непотребства и беспорядки приводят…» 30.
Ненадлежащее исполнение служебных обязанностей («слабая команда») было довольно распространенным видом правонарушений в крепостях. К их числу могут быть отнесены такие проступки, как «слабая команда в карауле»; «слабая команда на почте»; побег арестованного из-под караула; неправильное заполнение книг по сбору податей; самовольное оставление караула и пьянство; «слабая команда» над солдатами; неправильный подсчет денег (табл. 3).
Таблица 3
*
Наказания за «слабую команду» в 1710–1740 гг.
The Punishments for the “Weak Command” in 1710–1740
Table 3
|
№ |
Чин и имя |
Время и характер преступления |
Наказание |
|
1 |
Мушкетер Семен Малой |
1718 г. «Слабая команда на карауле» |
Шпицрутены (3 раза) |
|
2 |
Подпрапорщик Степан Конев |
1723 г. Утрата государственного имущества и «слабое смотрение, быв на почте» |
Освобожден без наказания |
|
3 |
Гренадер Прокофей Журавлев |
1724 г. Побег арестанта из-под караула |
Освобожден без наказания |
Окончание табл. 3
|
№ |
Чин и имя |
Время и характер преступления |
Наказание |
|
4 |
Капрал Иван Гусев |
1724 г. Побег арестанта из-под караула |
Битие батогами и разжалование в солдаты на месяц |
|
5 |
Мушкетер Никита Карпенков |
1727 г. Побег арестанта из-под караула |
Шпицрутены |
|
6 |
Солдат Иван Яковлев |
1731 г. Утрата подушных денег (40 рублей) |
Шпицрутены и каторга |
|
7 |
Солдат Дементий Кузнецов |
1732 г. Утрата казенных денег |
? |
|
8 |
Мушкетер Михаил Очишалов |
1733 г. Ошибочное заполнение «книг» |
Шпицрутены (3 раза) |
|
9 |
Мушкетер Григорий Воронин |
1734 г. Неверный подсчет денег |
Шпицрутены (3 раза) |
|
10 |
Капрал Михаил Кононов |
1736 г. Уход с караула и пьянство |
Битие батогами |
|
11 |
Сержант Петр Плотников |
1737 г. Незаконное взятие сена («насильно») |
Битие батогами и бессрочное разжалование в солдаты |
|
12 |
Мушкетер Семен Котов |
1738 г. Неверный подсчет денег |
Шпицрутены (3 раза) |
|
13 |
Солдат Иван Синогин |
1739 г. Побег арестанта из-под караула |
Шпицрутены (7 раз) |
|
14 |
Мушкетер Федор Федоров |
Не позднее 1740 г. Незаконное взятие сена («насильно») |
Битие батогами |
|
15 |
Мушкетер Яков Поташев |
Не позднее 1740 г. Побег арестанта |
Битие батогами |
* Сост. по: РГВИА. Ф. 8. Оп. 1. Д. 556; Ф. 490. Оп. 1. Д. 54. Л. 53 об. – 54, 56 об. – 57, 63 об. – 64, 87 об. – 88, 90 об. – 91, 98 об. – 99, 100 об. – 101; Д. 198. Л. 10 об. – 11, 79 об. – 80; Д. 199. Л. 5 об. – 6, 33 об. – 34, 51 об. – 52, 62 об. – 63, 65 об. – 66, 67 об. – 68, 108 об. – 109, 112 об. – 113.
Суровые наказания применялись к служащим, виновным в «слабой команде», в редких случаях. Например, это могло произойти при утрате значительных денежных сумм. Так произошло в 1731 г. с солдатом Выборгского гарнизонного полка Иваном Яковлевым. Он участвовал в сборе подушной подати с жителей Галицкого уезда Архангелогородской губернии. Находясь у сбора денег, И. Яковлев получил приказ доставить из Галицкой провинциальной канцелярии на полковой двор в Яренске 40 руб. на нужды полка 31. Сначала И. Яковлев на допросах утверждал, что по дороге из Галича в Яренск в одной из деревень, будучи на празднике, он напился до беспамятства и был ограблен: «…будучи в пути в приходе церкви Фрола и Лавра в день того торжественного празника в деревне, которая имеетца от той церкви в близости, а как званием того не знает, у пьяного и к тому ж <…> у сонного оные денги выняли и, убоясь того, не явясь на полковом дворе, бежал…» 32. В дальнейшем следствию удалось выяснить, что И. Яковлев ездил по окрестным деревням и пил в течение четырех недель, растратив не менее 20 руб.: «…будучи в пути недели с четыре, ходя по кабакам, також в день праздника Фрола и Лавра у церкви, которая от деревни верстах в дву, а как звание той деревни не знает, пил с неделю ж и пропил из оных денег, на вине издержал, на лакомстве и на пиве рублев з дватцать или более, а достальные обронил, или у пьяного кто вынял, того он не знает и, убоясь того, бежал» 33. Арестованный солдат был признан виновным в преступлениях по статье 95-й о дезертирстве и статье 194-й о хищении казенных денег и имущества (Российское законодательство, 1989, с. 344, 363). По этим нормам полковые судьи 29 апреля 1732 г. приговорили Яковлева к «политической казни» (50-ти ударам кнута и вырезанию ноздрей) и ссылке в Охотск 34. Однако 18 сентября 1732 г. Военная коллегия заменила «политическую казнь» на шпицрутены и ссылку на каторгу, принимая во внимание невиновность И. Яковлева в других преступлениях и отсутствие злого умысла совершить кражу: «…сии деньги прямо тайно не украл, но его погрешение в том состоит, что он деньги, которые он в охранении у себя имел, себе издержал и пропил…» 35.
Ни в одном из изученных документов о наказаниях за «слабую команду» нет ссылок на конкретную правовую норму. Вероятнее всего, в упомянутых выше случаях применялась статья 28-я, требовавшая разжалования в солдаты за неисполнение приказа из-за лени, глупости и медлительности (Российское законодательство, 1989, с. 333). Зачастую виновные носили чин рядового, поэтому власти применяли к ним телесное наказание. Служащие, виновные в побегах арестантов и неверном заполнении книг и журналов, наказывались шпицрутенами. И только унтер-офицеров приговаривали к двойному наказанию: шпицрутенам или батогам и разжалованию в солдаты.
Довольно распространены были ложные доносы и ложное произнесение «слова и дела». Эта формула означала, что служащий готов сообщить властям о фактах, имеющих высочайшее значение: об опасности для жизни императора или опасности для империи, или преступлениях лиц высокого ранга (ПСЗ-I, 1830, т. 5, № 2877, с. 137–138; № 3143, с. 531–532; № 3261, с. 603–604; т. 8, № 5528, с. 261–264). Всего выявлено 16 случаев ложного произнесения «слова и дела». Самые ранние сведения о попытке военных использовать формулу относятся к 1718 г., к делу о хищении таможенной казны в Кексгольме. Судьи обвинили в краже казны бурмистра Кексгольмской таможни Игнатия Долгополова и нескольких служащих местного гарнизона. И. Долгополов на одном из первых допросов произнес: «слово и дело» 36. После пытки он признал, что не имел важных сведений, а свои предыдущие показания объяснил страхом перед расследованием хищения. Далее И. Долгополов утверждал, что произнести формулу ему посоветовал солдат Никита Парфенов, охранявший его в тюрьме. Н. Парфенов заверил бывшего бурмистра, что расследование кражи будет остановлено, пытки отменены, а его отошлют в Санкт-Петербург для допросов: «…научал-де ево и велел сказать о том, будучи у него на карауле, первой роты салдат Никита Парфенов того ради, что-де отошлют в Санкт-Питербурх и пытать впредь не станут» 37. По словам И. Долгополова, он согласился, стремясь оградить себя от сурового приговора по делу о хищении. Однако он не смог реализовать план и ухудшил свое положение. К обвинению в хищении казны прибавилось обвинение в ложном доносе. В конце концов И. Долгополов был приговорен петербургскими властями к ссылке в Сибирь, но умер до отправки к месту наказания 38.
По данным за 1735 и 1740 гг. ложный донос можно считать довольно распространенным явлением в Выборге и Кексгольме. Так, среди служащих Ивангородского полка 1735 г. три человека были виновны в ложном доносе 39. Пять лет спустя в том же полку четыре человека имели приговоры к различным наказаниям за аналогичное преступление 40. В Артикуле су- ществовала лишь одна статья о ложном доносе: статья 148-я. Однако она не декларировала конкретных мер «штрафования» преступника (Российское законодательство, 1989, с. 353). На практике наказанием, как правило, становились шпицрутены. В 13 из 16 эпизодов виновных приговорили к шпицрутенам. В двух случаях виновные были наказаны как физически, так и ссылкой на каторгу (табл. 4).
Таблица 4
Наказания за ложный донос в 1710–1740 гг. *
Table 4
The Punishments for the False Denunciation in 1710–1740
|
Наказание |
Количество приговоров |
|
Шпицрутены |
13 |
|
Наказание кнутом и ссылка на каторгу |
1 |
|
«Политическая казнь» и ссылка на каторгу |
1 |
|
Нет данных |
1 |
|
Всего |
16 |
* Сост. по: РГАДА. Ф. 198. Оп. 1. Д. 706. Л. 173–174 об.; РГВИА. Ф. 8. Оп. 3. Д. 177; Ф. 490. Оп. 1. Д. 34, 54, 198, 199.
Меньше всего сведений удалось найти о тяжких преступлениях: среди них попытка самоубийства, покушение на убийство, нанесение тяжелых побоев, повлекших смерть, подстрекательство к убийству. Больше всего данных удалось найти по делу мушкетера Ивангородского полка Владимира Клюкина 1733 г. (или по данным второго источника 1736 г.) 41 Он совершил преступление во время сбора подушной подати в Вологодском уезде. Мушкетеру вместе с другими выборгскими служащими поручили взыскать недоимки. В ходе правежа денег В. Клюкин избил монаха, который скончался от полученных травм. Действия мушкетера подпадали под статью 158-ю, устанавливавшую смертную казнь за убийство, совершенное в порыве гнева (Российское законодательство, 1989, с. 357). Вопреки законодательной норме В. Клюкина приговорили к наказанию шпицрутенами (пятикратному прогону сквозь строй) 42.
Сведения о половых преступлениях также немногочисленны: они касаются трех эпизодов. В 1721 г. жительница деревни Новая кирка обвинила в насилии служащего Выборгского гарнизона Якова Зуева 43. Несмотря на требование статьи 167-й наказать насильника отсечением головы или вечной ссылкой на галеры (Российское законодательство, 1989, с. 359), судьи приговорили Я. Зуева к битию батогами перед полком: «Был в фергере и криксрехте <…> 721-го году по челобитью Новой кирки девки чюхонки за бесчестье и ругательство, бит пе-рет полком батоги» 44. В 1722 г. такому же наказанию подвергли солдата Ивана Козлова. Его обвинили в умысле «со скотом блудить» 45. В этом случае приговор полностью соответствовал закону. Согласно статье 165-й, военнослужащий, виновный в половой связи с животным («скотоложество»), должен был быть приговорен к жестокому телесному наказанию (Российское законодательство, 1989, с. 358). В 1732 г. мушкетер Степан Москалев был судим за совращение чужой жены: «…во взятье себе от живаго мужа жены» 46. Преступление
С. Москалева должно было караться по статье 170-й, признающей виновным лицо, замеченное в половой связи с замужней женщиной (Российское законодательство, 1989, с. 359–360). За это предусматривалось наказание шпицрутенами, отставка и каторга. С. Москалев был приговорен к трехкратному проходу сквозь полковой строй под ударами шпицрутенов, что соответствовало законодательной норме. Однако после тяжелого телесного наказания он продолжил службу 47.
Итак, наиболее распространенными преступлениями служащих нижних чинов в Выборге и Кексгольме были побеги и кражи. Нередко военные также обвинялись в плохом исполнение служебных обязанностей и пьянстве. Такие преступления, как ложное доносительство, покушения на жизнь и половую неприкосновенность, происходили значительно реже. Как правило, все правонарушения унтер-офицеров и рядовых рассматривались полковым судом, а затем Военной коллегией в сжатые сроки (не более года). Если судьи полкового суда, вынося приговор, строго руководствовались нормами Артикула, то Военная коллегия почти никогда не следовала им. Смертные приговоры, вынесенные в Выборге и Кексгольме, отменялись в ходе повторного рассмотрения дела. Обычно казнь заменяли различными телесными наказаниями, реже – каторгой. За совершение кражи наказывали так же, как и за любой дисциплинарный проступок: виновного приговаривали к шпицрутенам. Таким образом, в повседневной судебной практике первой половины XVIII в. нормы Артикула были существенно скорректированы, и действовал иной свод неписаных правил, значительно менее суровых.
Список литературы "В разные годы в пьянстве малые кражи чинил": преступления служащих нижних чинов Выборгского и Кексгольмского гарнизонов в 1710-1740 годах
- Азнабаев Б. А. Воинские правонарушения служащих дворян Оренбургского корпуса во второй половине XVIII в. (по смотровым и формулярным спискам полков и батальонов Оренбургской губернии) // Вестник Моск. гос. ун-та. Серия 8: История. 2004. № 1. С. 101-114.
- Дмитриев А. В. Военное судопроизводство в армейских частях на территории Сибири в XVIII в.: Официальный механизм и реальная практика // Исторический курьер. 2018. № 1. С. 74-83.
- Дмитриев А. В. Правонарушения в сфере семейной жизни военнослужащих регулярной армии России XVIII в. с позиций истории повседневности // Гуманитарные науки в Сибири. 2020а. Т. 27, № 1. С. 50-56.
- Дмитриев А. В. Правонарушения офицеров нерусского происхождения в частях русской регулярной армии на территории Сибири в XVIII в. // Aus Sibirien - 2019: Науч.-инф. сб. Тюмень, 2020б. С. 44-48.
- Дмитриев А. В. Преступления военнослужащих регулярной армии России XVIII в. в сфере семейной жизни: Имперское законодательство и реальная практика наказаний // Вестник Ом. гос. ун-та. Серия: Исторические науки. 2021. Т. 8, № 3 (31). С. 13-22.
- Лупанова Е. М. Офицерский корпус русского флота: норма и девиация повседневной жизни. 1768-1812 гг. СПб.: ЛЕМА, 2011. 251 с.
- Письмак Д. А. Процедуры судопроизводства в частях Сибирского корпуса во второй половине XVIII века // МНСК-2022: Материалы 60-й Междунар. науч. студ. конф. Археология. История. Этнография. Новосибирск, 2022. С. 147-148.
- Проскурякова М. Е. «От смертной казни освободить…». Борьба с преступностью в Выборгском гарнизоне в начале XVIII века // Военно-исторический журнал. 2012. № 10. С. 68-71.
- Проскурякова М. Е. «Бежав ис полку…»: феномен дезертирства в контексте истории судебной практики первой половины XVIII века // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2014. Т. 13, вып. 8. С. 82-92.
- Серов Д. О. Ревизионно-решающий порядок в уголовном процессе России конца XV - первой четверти XVIII в. // Журнал российского права. 2008. № 6. С. 102-109.
- Серов Д. О. Забытые редакции Артикула воинского и «Краткого изображения процессов или судебных тяжеб» (Из истории кодификации военного законодательства России XVIII в.) // Lex Rossica. 2013. Февраль. № 2 (Т. LXXV). С. 113-121.