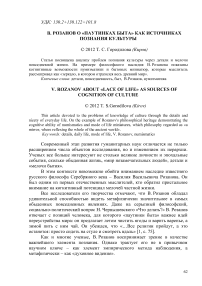В. Розанов о «паутинках быта» как источниках познания культуры
Автор: Городилова Татьяна Сергеевна
Журнал: Креативная экономика и социальные инновации @cesi-journal
Рубрика: Культурологические интерпретации
Статья в выпуске: 2 (3), 2012 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу проблем познания культуры через детали и мелочи повседневной жизни. На примере философского наследия В. Розанова показаны когнитивные возможности нумизматики и бытовых миниатюр, которые мыслитель рассматривал как «зеркало, в котором отразился весь древний мир».
Детали, повседневность, быт, в.розанов, нумизматика
Короткий адрес: https://sciup.org/14238933
IDR: 14238933 | УДК: 130.2+130.122+101.8
Текст научной статьи В. Розанов о «паутинках быта» как источниках познания культуры
Современный этап развития гуманитарных наук отличается не только расширением числа объектов исследования, но и изменением их иерархии. Ученых все больше интересуют не столько великие личности и эпохальные события, сколько обыденная жизнь, «мир незамечательных людей», детали и «мелочи бытия».
В этом контексте невозможно обойти вниманием наследие известного русского философа Серебряного века – Василия Васильевича Розанова. Он был одним из первых отечественных мыслителей, кто обратил пристальное внимание на когнитивный потенциал мелочей частной жизни.
Все исследователи его творчества отмечают, что В. Розанов обладал удивительной способностью видеть метафизически значительное в самых обыденных повседневных явлениях. Даже на серьезный философский, социально-политический вопрос Н. Чернышевского «Что делать?» В. Розанов отвечает с позиций человека, для которого «паутинки быта» важнее идей переустройства мира: он предлагает летом чистить ягоды и варить варенье, а зимой пить с ним чай. Он убежден, что «…Все религии пройдут, а это останется: просто сидеть на стуле и смотреть вдаль» [1, с. 75].
Как и многие ученые, В. Розанов воспринимает зрение в качестве важнейшего элемента познания. Однако трактует его не в привычном научном ключе – как элемент эмпирического метода наблюдения, а метафизически – как «духовное видение».
Наиболее ярко это проявляется в его отношении к нумизматике. По его собственному признанию, занятия нумизматикой пробуждают множество мыслей своей «бездумностью». Он пишет: «И "думки" летят как птицы, когда глаз рассматривает и вообще около монет "копаешься". Душа тогда свободна…» [1, с. 212]. Этим вероятно и объясняется тот факт, что большая часть его «листвы» в знаменитых «Опавших листьях» и «Уединенное» опубликована с пометкой « за нумизматикой ».
В. Розанов признается, что когда «глаз рассматривает» – «душа высвобождается», отдыхает, «расправляется в крыльях и летит-летит». В этом полете мысли ему открываются тайны других эпох. Поэтому он относится к нумизматике как одному из важных средств познания культуры, не только материальной, но и духовной. Татьяна Розанова, дочь философа, пишет о том, как отец часами разбирал монеты, любовался ими и рассматривал в лупу отдельные детали, сверяя их с каталогами. Сам же философ в статье «Об античных монетах» признается, что они с П. Флоренским «заядлые любовники монет», которые даже говорить не могут при виде древних монет, так как на них «глянула жизнь из-за двух тысяч лет» [2].
В. Розанов убежден, что никто не имеет такого осязательного отношения к древнему миру, как нумизматы. Монеты – это источник их энтузиазма и рвения, и необозримых, изумительных трудов, какие они написали. Его собственное знакомство с нумизматикой началось с такого же «осязательного» откровения. В. Розанов приводит рассказ о том, как он «копался и отбирал» монеты в лавке нумизмата на улице Гороховой (Санкт-Петербург). Наконец, определился с выбором. Владелец спросил своего помощника о решении покупателя. Но тот, не понимая выбора, был в затруднении, как ответить. В. Розанов пишет: «Среди монет были и татарские – с надписями и без изображений. Тут-то и сказалось и «первое нумизматическое сведение»…
– Какие они отобрали? – Спросил он про меня.
Молчание. Он пояснил:
– Если с головами – значит римские.
«С головами»… В самом деле, мусульманские – «безголовые». Первое большое деление нумизматики …» [курсив мой – Т. Г.] [2]. Можно было бы продолжить этот ряд и сказать, что для В. Розанова началось и « первое большое деление типов культуры », а также их осязательное познание.
Рассматривание редких монет Древней Греции и Древнего Рима, он называет «дивной школой древней истории». Философ убежден, что нумизматика, «сама по себе, одна, количественно обширнее, книгами и сочинениями богаче, нежели все отделы древней истории, в совокупности» [2]. Относительно «прочувствования» эпохи В. Розанов весьма точно замечает, «что горсть римских республиканских денариев, данных классу для рассмотрения, сказала бы больше о древнем мире, чем мертвые рисуночки, продукт нашей техники…» [2].
В ряде произведений изображения монет из своей коллекции В. Розанов использует в качестве иллюстративного материала. Например, в «Опавших листьях» он пишет, что был поражен красотой смысла в надписи на монете, которая гласила «FECVNDITAS AVCVSTAE, т. е. ЧАДОРОДИЕ ЦАРИЦЫ» [4, с. 100]. Его поразил сам факт того, что на «торговой монете», орудии обмена в руках у всех, «у торговок, проституток, мясников, франтов» изображена императрица Фаустина с четырьмя детьми. Для него она стала символом того, что он искал и не находил в современной ему жизни: не важно какое положение у семьи и достаток, смысл ее существования – в детях. Это должно стать всеобщим достоянием, культом для людей. И не столько потому, что родила императрица, сколько потому, что это предназначение любой женщины.
В. Розанову было чуждо деление познания на рациональное – иррациональное, объективное – субъективное. Большая часть его работ – это яркий пример «диалога сознаний». В. Розанов исходит из равноправия и равноценности различных способов видения и познания мира. Именно поэтому он, подобно многим другим русским философам, скептически относится к традиционной, рациональной форме философствования, полагая, что осмыслить человека можно только через «вглядывание» в мир и людей.
Даже определение нумизматике как теоретической дисциплине он дал весьма художественное, но абсолютно точное. В. Розанов обнаружил данное высказывание в тексте известного нумизмата А. П. Бутковского-Глинки и посчитал его «лучшим определением» нумизаматики: «…Масса античных монет представляет собою как бы одно металлическое зеркало, в котором отразился весь древний мир с его произведениями и постепенным развитием искусств» [2]. В. Розанов до последних дней своей жизни вглядывался в это зеркало, ища ответы на вопросы о культурах не только прошлых эпох, но, прежде всего, о проблемах современной ему жизни.
Символична в данном свете и история, рассказанная его знакомым С. Н. Дурылиным: «Когда Василий Васильевич умер и закрылись глаза, нужно было положить на веки медяки, чтобы не раскрывались веки. Но денег тогда медных в России не было, и карманы были полны ничего не стоившими бумажными пятачками Керенского. И пришлось взять какие-то медяки из египетской коллекции и их древнею медью с Озирисом и Аписом придавить глаза, еще недавно зорко рассматривавшие с восторгом эти самые монеты» [2]. Думается, что сам В. Розанов не только не возражал бы против этого, но и принял с восторгом, потому что он как никто другой умел видеть и ценить символичность подобных деталей и нюансов.
Философ при работе с вещественными источниками древних эпох всегда был ориентирован не столько на рационализированное, объективированное познание, сколько на осязательно-обонятельное отношение (если несколько перефразировать название его знаменитого текста о евреях) к прошлому. Благодаря этому В. Розанов увидел то, на что многие ученые-историки не обратили внимания. Он открыл, что «нежность»,
«глубина», «умиленность» – это особые категории египетской истории, погаснувшие там, не возрожденные более нигде.
В. Розанов признает, что с точки зрения строгой науки, это не «исторические категории» вовсе и подчеркивает, что о Египте принято говорить терминами европейской цивилизации. Именно в этом, полагает философ, кроется корень непонимания этой культуры. В статье «Исторические категории» он пишет, что о Египте ученые рассказывают «не египетскими категориями» и поэтому «проходят сквозь лес» (т. е. Египет), не замечая его.
Однако, упрекая европейских исследователей в том, что они стали писать египетскую историю, как римскую и французскую, «приставляя к римским и французским туловищам египетские головы, имена», В. Розанов проделывает то же самое: пишет египетскую историю с тех позиций, которые важны для него, видит в египетских рисунках то, что его интересует. Самым же значимым он считает «тепло человеческих отношений», духовную близость, явленную в быте семьи. Потому и египетскую культуру он исследует через «паутинки быта», обнаруженные им в древних миниатюрах.
К миниатюрам у В. Розанова не менее трепетное отношение, чем к монетам. Статью «Археология древних миниатюр» он открывает словами: «Кто рассматривал древние манускрипты, тот знает всю увлекательную прелесть крошечных изображений около текста их, то иллюстрирующих этот текст, то навеянных им. Каково живописное, художественное значение этих миниатюр, начертанных рукою не автора манускрипта, но его переписчика? Никакого. Но от этой безличности автора-миниатюриста, от отсутствия в нем художественных притязаний и ожиданий, миниатюры получают непредугадываемый новый интерес: ими говорит эпоха, а не лицо и имя» [3, с. 229]. Поэтому В. Розанов убежден, что их значение для историка, археолога и даже психолога становится ценнее высоких личных произведений искусства.
Главное предназначение миниатюры, по его мнению, говорить от лица своего времени и образами своего времени. Но чтобы увидеть/прочесть это послание необходимо вооружиться увеличительным стеклом. При работе с монетами В. Розанов дает аналогичный совет: «…Пока вы не начали ее изучать, т. е. с лупою в руках не начали знакомиться с подробностями каждой монеты, все они и вся нумизматика кажутся неинтересными» [2]. Поэтому «взяв лупу» и раскрыв книги, как профессиональный исследователь, так и любитель, откроет для себя многие тайны прошлого, через мельчайшие детали познает глубинные основы человеческой цивилизации.
В статье «У ноги мужа» из сборника «Возрождающийся Египет» В. Розанов применил подобный способ при изучении рисунка, на котором стоит хромой мужчина, а у его ног сидит жена. Философ пишет: «… Взглянув и особенно своей рукой перечертив рисунок этот, я знаю об этом египтянине и египтянке решительно все, что мог бы узнать из длинного «тома»: но знаю музыкально, как решительно не мог бы узнать из «тома»…» [курсив – В. Р.] [5, с. 84]. Он подчеркивает, что суть и особенность египетских рисунков заключается в их музыкальности, в способности через «штрих» рассказать содержание. Европейские историки египетской культуры все ищут легенд, рассказов, новелл, ищут «хоть начала беллетристики». Но зачем же, спрашивает В. Розанов, египтянам было дважды писать то, что они уже великолепно и бесконечно написали в своих «в одну линию» рисунках. Их и нужно изучать, но, не комментируя, а перерисовывая, пытаясь повторить ход мыслей и чувств художника, так как особенность египетских рисунков заключается в том, что «они все музыкальны, и, представляя «штрих», на самом деле рассказывают содержание» [5, с. 84]. Философ всегда был убежден, что всякая вещь (и монета, и рисунок) становится интересна именно «из своих подробностей», поскольку они могут открыть тайное, сделать явным то, что ускользнуло от невнимательного взгляда.
Поэтому В. Розанов, рассмотрев «подробности» в египетском рисунке, выстраивает, додумывает совершенно самостоятельную историю об этой семье: «они были люди мирные, – он очень энергичен, она – тиха и скромна. Но он был человек строгий, справедливый, и соседи очень уважали его; а “род” и родственники его надеялись и опирались на “хромого”» [5, с. 84]. Философ обращается к своим современником с вопросом: «Чего вам надо? Зачем ищете? Вы прослушали музыку и все из нее узнали» [5, с. 85].
Развивая свою мысль, В. Розанов отмечает, что европеец этот рисунок, скорее всего, поймет как яркий пример униженного положения женщины в древнеегипетском обществе, ее «семейного рабства». Однако тот факт, что египтяне часто вступали в родственные браки приводит В. Розанова к выводу о том, что супруги равны по своему социальному положению. Следовательно, жена ни в чем от мужа не нуждается, а любит его. Такое исследование египетской культуры сложно назвать строго научным. Однако именно переживание содержания рисунков позволяет В. Розанову приблизить далекую эпоху к настоящему времени, открыть в ней новые грани.
Философ заставляет по-новому взглянуть на привычные источники изучения египетской культуры: рельефы и росписи в храмах, пирамидах. Он не пытается их «расшифровать», объяснить, а просто смотрит, удивляется и умиляется. Ничего другого для понимания историко-культурных источников и интерпретации их содержания, по мнению В. Розанова, и не требуется.
Примером этого служит даже способ организации текста в книге «Возрождающийся Египет». Она построена на комментариях В. Розанова к египетским рисункам. Иногда комментарий перерастает в самостоятельную статью, но зачастую философ ограничивается просто краткой ремаркой. Например, статья «Дети египетские» начинается со слов: «А о детях египетских нам нечего писать – вот они: …» [5, с. 86]. Далее помещен рисунок ребенка, идущего рядом с ослицей и осленком. И буквально на этой же и следующей странице помещены еще два египетских рисунка, посвященных теме семьи и продолжения рода. Для философа важно не просто привести цепочку логических рассуждений о содержании рисунка, а высказать свои эмоции и чувства, дабы пробудить в читателе способность удивляться и восхищаться, подтолкнуть его к «вглядыванию» в египетскую культуру.
Таким образом, розановскому отношению к миру свойственно интутитивно-чувственное восприятие, которое служит теоретической базой для его философских и культурологических построений. Сбор и объективный анализ конкретных исторических, археологических и других научных фактов мыслителя практически не интересует. Ему важнее «почувствовать» эпоху. Поэтому он сожалеет, что в современной культуре утрачиваются исходные значения многих явлений и даже слов.
Например, в статье «Об археологии древних миниатюр» он пишет, что изначально слово «эстетика» имело эмпирический смысл, так как переводилось как «ощущение». Поэтому для древних людей эстетика была частью их физической, а не отвлеченно-интеллектуальной жизни. В. Розанов иронизирует над современными «неуклюжими профессорами», которые занимаются данной наукой «ни разу не полюбовавшись ни женщиною, ни статуею». Для него последними эстетиками, в древнем смысле этого слова, остались нумизматы, так как мотивом их научных трудов и двигателем всей их жизни «служат столько же “интересы” в сухом смысле “науки”, палеографии, истории и проч., сколько и “осязательный восторг”, ими овладевающий при всматривании в гипнотизирующее “металлическое зеркало” древнего мира» [2].
Таким образом, «паутинки быта» в контексте философии В. Розанова становятся источником решения основной гносеологической проблемы – познания бытия, которое не поддается четкой фиксации и упорядочиванию по логической схеме. Поэтому способы постижения культуры и человека никак не вписываются в классическую методологию познания. До В. Розанова никто «осязательность», «пахучесть», «умиление», «вглядывание» и «вслушивание» не предлагал ввести в обиход в качестве когнитивных практик.
Он уверен, что для того чтобы ощутить подлинность бытия, необходимо быть в состоянии удивления, которое позволит увидеть в быте – бытие, в мелочах – великое. Философ признается, что «мелочи – суть мои боги» [1, с. 271], познав их, можно вступить в соприсутствие с миром. В. Розанов считает справедливым освободить от излишней рациональности свои мысли об этом мире, чтобы не нарушать реальный ход событий, не искажать процесс его восприятия и не создавать искусственных построений, разрушающих естественный ход жизни. Это подчеркивает «неклассичность» мышления В. Розанова, выраженную в единстве познаваемого и познающего, и типичное для русской философии стремление к цельному знанию, порождаемому единством чувства, разума, интуиции и веры. Кроме того, В. Розанов наметил целый ряд тем, ставших предметным полем современных философских и культурологических исследований, во многом предвосхитив ключевые направления постклассической когнитологии.
Список литературы В. Розанов о «паутинках быта» как источниках познания культуры
- Розанов В. В. Миниатюры. -М.: Прогресс-Плеяда, 2004. -450 с.
- Розанов В. В. Об античных монетах [Электронный ресурс]/Вступ. сл. Е. В. Лепехина. -URL: http://coins.msk.ru/articles/10/86/(дата обращения: 9.04.2012)
- Розанов В. В. Археология древних миниатюр//Розанов В. В. Среди художников. -М.: Республика, 1994. -С. 229-238.
- Розанов В. В. Уединенное. -М.: Политиздат, 1990. -544 с.
- Розанов В. В. У ноги мужа//Розанов В. В. Собр. соч. Возрождающийся Египет. -М., 2002. -С. 83-86.