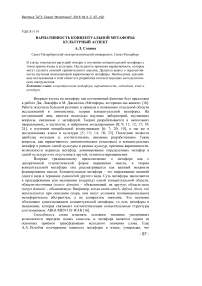Вариативность концептуальной метафоры: культурный аспект
Автор: Сопина Александра Львовна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Вопросы теории
Статья в выпуске: 4, 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье отмечается растущий интерес к изучению концептуальной метафоры с точки зрения языка и культуры. Исследуются признаки вариативности, которые могут служить основой сравнительного анализа. Делается вывод о перспективности изучения межъязыковой вариативности метафоры. Необходимы дальнейшие исследования в этой области и разработка соответствующих методологических инструментов.
Концептуальная метафора, вариативность, методика, язык и культура
Короткий адрес: https://sciup.org/146281333
IDR: 146281333 | УДК: 81-119
Текст научной статьи Вариативность концептуальной метафоры: культурный аспект
Впервые взгляд на метафору как когнитивный феномен был предложен в работе Дж. Лакоффа и М. Джонсона «Метафоры, которыми мы живем» [16]. Работа получила большой резонанс и привела к появлению отдельной области исследований в лингвистике, теории концептуальной метафоры. На сегодняшний день имеется несколько научных лабораторий, изучающих вопросы, связанные с метафорой. Теория разрабатывается в нескольких направлениях, в частности, в нейронном моделировании [8; 9; 11; 12; 17; 19; 24], в изучении невербальной коммуникации [6; 7; 20; 10], а так же в исследованиях языка и культуры [5; 13; 14; 18; 23]. Последнее является наиболее молодым и, соответственно, наименее разработанным. Такие вопросы, как вариативность лингвистических (языковых) и концептуальных метафор в рамках одной культуры и разных культур, причины вариативности, возможности перевода метафор, доминирование определенных метафор в одной культуре и их отсутствие в другой, остаются нерешенными.
Вопреки традиционному представлению о метафоре как о декоративной стилистической форме выражения мысли, в теории концептуальной метафоры она рассматривается как важный механизм формирования мысли. Концептуальная метафора - это переживание явлений одного вида в терминах сущностей другого вида. Суть метафоры заключается в проецировании или наложении ( mapping ) одной концептуальной области, области-источника ( source domain ) - объясняющей, на другую, область-цель ( target domain ) - объясняемую. Например, когда слова attack, defend, shoot, win используются при описании спора, они несут условное (конвенциональное) метафорическое абстрактное, а не конкретное значение. Это значение обосновано существованием концептуальной метафоры, то есть метафоры в мышлении, которая связывает соответствующие концептуальные структуры соотношением: ARGUMENT IS WAR [16].
Способность слова изменять основное значение увеличивает возможности передачи новых смыслов, и метафора является одним из основных приёмов трансформации исходного значения слова. Еще А.А. Потебня подчеркивал важность метафоры в языке, утверждая, что метафора - это «необходимый приём, сводящий сложное на простое и делающий это сложное maniable, таким, что им можно орудовать» [3: 226]. Такая трансформация возможна благодаря способности человека находить сходство и взаимосвязь между разными классами объектов. Н.Д. Арутюнова утверждает, что «сопостовление несопоставимого» и «соизмерение несоизмеримого» в сознании человека действует постоянно, порождая метафору в любых видах дискурса [1: 2].
Если концептуальная метафора выражается в любых видах дискурсов, то её языковое выражение должно отличаться в зависимости от задач и стилистических требований того или иного дискурса. Действительно, в языке повседневной речи и в языке художественной речи метафора играет разную роль. В первом случае, она является продуктивным средством формирования новых значений, поскольку первоначально метафоричное слово со временем утрачивает образ, метафора стирается и на смену ей приходит новое значение. Размышляя об этом механизме, А.А. Потебня пишет следующее: «все значения в языке по происхождению образны, каждое может с течением времени стать безо́бразным. Оба состояния слова, образность и безо́бразность, равно естественны» [4: 204]. Н.Д. Арутюнова отмечает, что в повседневной речи, метафора быстро стирается и входит в словарный состав языка, а в художественной речи и в искусстве в целом, где создание образа является самоцелью, метафора становится средством выразительности языка, передачи уникального видения автора [1]. Поэтому в языке художественной речи часто используются авторские метафоры. Однако, как отмечает З. Ковечеш, даже на первый взгляд уникальные лингвистические метафоры, как правило, строятся на привычных образах. Основная часть областей источников и целей содержится конвенциональной концептуальной системе. Сложно придумать новую область-источник для концептуализации привычной области-цели, точно так же как и сложно придумать новую область-цель, которую можно было бы объяснить в терминах базовых областей-источников. Представить метафору, в которой будут задействованы уникальные области цели и источника, еще труднее. Чаще всего поэты и писатели используют конвенциональные области-цели, такие как любовь , свобода и жизнь , область-источник при этом может выходить за рамки конвенциональности [14: 86]. Приведем следующий пример. В стихотворении Владимира Маяковского оригинальная лингвистическая метафора «любовная лодка разбилась о быт» [2: 410] строится на конвенциональной концептуальной метафоре ЛЮБОВЬ -ЭТО ПУТЬ. Эта метафора выражается в повседневной речи в таких сочетаниях, как «наши пути разошлись», «наши отношения зашли в тупик» и др. В приведённом выше примере, область-цель ЛЮБОВЬ объясняется в терминах, относящихся к перемещению в пространстве и ПУТИ, а именно, как совместное путешествие с использованием определённого средства передвижения. До конца ПУТИ, пункта назначения, до счастья и гармонии в отношениях, героям добраться не удаётся, так как на ПУТИ встречается препятствие - быт.
Понимание одного через другое происходит за счёт взаимодействия не изолированного имени, а целой концептуальной структуры, элементы которой выборочно «высвечиваются» и участвуют в метафоре. То есть, для метафоры, - 98 - представленной выше, такой элемент концепта ЛОДКА, как вёсла, оказывается вне поля зрения, хотя в иной ситуации он мог бы выйти на первый план. Интересно, что еще А.А. Потебня отмечал, что метафора в части предложения делает метафоричным все то целое, которое нужно для её понимания, то есть «пробуждает» цельный образ и связанные с ним логические выводы. А.А. Потебня иллюстрирует это утверждение следующим примером: «хоть каплю жалости храня», – в этом случае жалость – жидкость, которую хранить можно в сосуде, каким представляется человек. Метафора может заключаться в любом члене предложения, причём остальные, первоначально (т.е. до сочетания) неметафоричные, становятся метафоричны [4: 267].
Поэтические тексты отличаются от непоэтических тем, что конвенциональные метафоры в них развиваются, разрабатываются и сочетаются между собой необычным образом. Дж. Лакофф и М. Тёрнер приводят следующий пример из поэтического текста: «The world is awake tonight. It is lying on its back with its eyes open» [15: 67]. Персонификация ( the world is awake ), которая привычна для носителя языка и встречается в различных выражениях ( the world is crazy, show it to the world ), расширяется необычным образом – теперь у мира есть тело, спина и глаза. Дж. Лакофф и М. Тёрнер предлагают интересное сравнение поэтического сочинения с музыкальным. Как композитор соединяет простые элементы тональности, ноты, аккорды, гармонии, в сложные музыкальные фразы и части музыкального произведения, поэт использует простые концепты, повседневные метафоры и обыденный опыт, создавая концептуальные композиции и ансамбль идей, которые воспринимаются нами как сложное единое целое. Сложные метафоры – это композиции такого рода [15: 72].
Таким образом, варианты выражения концептуальной метафоры в функционально разных текстах отличаются, хотя и имеют одну основу. Вариативность языкового выражения концептуальной метафоры создаёт трудности для её анализа.
Сегодня для выявления в тексте языковых элементов, имеющих метафорическое значение, широко используется метод анализа языкового материала корпусов «Процедура идентификации метафоры» (MIP, позднее доработан в MIPVU), предложенный Pragglejaz Group Свободного университета Амстердама. Он обеспечивает необходимую объективность в процессе выявления метафоры и предполагает выполнение следующей инструкции.
-
1 .Прочитать текст целиком, для понимания общего смысла.
-
2 .Определить лексические единицы (имена, фразовые глаголы и некоторые сложные слова рассматриваются как одна единица).
-
3 .Определить: а) для каждой лексической единицы контекстуальное значение; б) имеет ли данная лексическая единица современное базовое значение в других контекстах. Базовое значение – более конкретное, точное, его легко представить, оно связано с телесным опытом, т.е. комплексом физиологических ощущений; в) пределить, контрастирует ли контекстуальное значение с базовым значением;
-
4.Е сли да, то следует маркировать лексическую единицу как метафору [21].
Г. Стейн, один из авторов метода, предлагает также комплексное трёхмерное исследование метафоры по следующим направлениям:
- 99 - лингвистическое, концептуальное и коммуникативное. Лингвистическое направление разделяет метафору на прямую (сравнение) и непрямую (скрытое сравнение). Концептуальное направление рассматривает феномен новизны и конвенциональности (устойчивости) метафоры. В рамках коммуникативного направления метафора дифференцируется по признаку намеренности (осознанности) и ненамеренности (бессознательности). Стоит отметить, что прямые метафоры и новые метафоры являются намеренными, так как они побуждают сознательное обращение к области-источнику [22: 86]. Более подробный обзор и анализ методологии лаборатории Г. Стейна представлен в статье С.Л. Мишлановой [3].
-
А. Барселона, с другой стороны, предлагает выделять следующие признаки вариативности языковых выражений концептуальной метафоры: степень лингвистической разработанности (число языковых выражений одной концептуальной метафоры), вид языковых выражений (одна лингвистическая единица или целое предложение), степень условности (степень стилистической маркировки), степень специфичности (гипероним или гипоним), объем метафоры (продуктивность области-цели и области-источника) и степень прозрачности метафоры [5; 14].
Предложенный выше алгоритм действий при идентификации метафоры и определении её характеристики касается работы с лингвистическими (языковыми) метафорами. Выделение концептуальной метафоры на основании языкового материала представляет бо́льшую трудность. Метафора может быть интерпретирована по-разному, так как в основе метафоризации, так же как и интерпретации, может лежать субъективное восприятие предметов и явлений.
Метафора - это сложное языковое, концептуальное, социокультурное, нейронное и физическое образование. Поскольку чувственный опыт у людей схож, предполагается, что существуют универсальные метафоры, имеющиеся во всех или практически всех языках мира, и их определить не так сложно. Например, концептуальная метафора HAPPY IS UP (лингв. my spirits rose, he is on cloud nine ) обнаруживается в английском, китайском, венгерском [14: 36– 38] и русском, несмотря на то, что эти языки принадлежат разным языковым семьям, а культуры народов, говорящих на этих языках, сильно отличаются. Образование одной концептуальной метафоры вряд ли произошло случайно, и хотя вариант заимствования не исключается, наиболее вероятное объяснение всё-таки - существование общечеловеческого качества, приведшего к появлению такой метафоры. При этом не стоит исключать, что не только простые (основанные на телесном опыте), но и сложные метафоры потенциально могут быть универсальными [14: 4].
Однако общий для культур опыт не обязательно предполагает трансляцию в универсальные метафоры. Телесный опыт используется в создании метафор выборочно. Он может уступать влиянию культуры и когнитивных процессов в создании метафоры. Так, например, согласно результатам исследования А. Барселоны, несмотря на то, что в английском и испанском языках в концептуализации понятия SADNESS доминирует концептуальная метафора SADNESS IS DOWN, в испанском языке, в отличие от английского, не менее важной оказывается метафора SADNESS IS A TORMENTOR [5: 120]. С другой стороны, в исследовании А. Мусолффа было показано, что интерпретация одной метафоры может отличаться в разных культурах. Так, представители западных культур склонны интерпретировать метафору NATION IS BODY с точки зрения функций отдельных правовых структур, где голова «тела нации» – это глава государства (президент, королева), руки – министерства и органы управления; а представители китайской культуры интерпретируют её по географическому признаку, где сердце и мозг «тела нации» – это Пекин, лицо – Шанхай, Гонконг – ноги и т.д. [18].
Для того чтобы избежать субъективности в исследовании необходимо поэтапно проводить анализ концептуальной метафоры на всех её уровнях, З. Ковечеш в монографии «Metaphor in Culture: Universality and Variation» выделяет следующие составляющие метафоры: область-источник, область-цель, чувственный опыт, нейронные структуры, отвечающие области-источнику и области-цели, отношение между источником и целью, лингвистическое выражение, проекции, логические следования, бленды, нелингвистическое выражение (невербальное), культурные модели [14: 5]. Различия в системе метафоры могут возникнуть на любом уровне. Два языка могут определять одну область-цель с помощью разных областей-источников, или наоборот одна область-источник может использоваться для объяснения разных областей-целей. Кроме того, чувственный опыт, связанный с определёнными концептуальными структурами, у представителей разных культур может отличаться, также как и логические выводы, связанные с метафорой. Поэтому, даже если метафора в разных языках строится с помощью одной области-цели и области-источника, а в языках используются аналогичные лингвистические средства выражения, нельзя исключить вариацию.
Таким образом, концептуальная метафора – это сложное образование, основанное на мыслительных, физических, языковых и социокультурных процессах. Типологическое исследование метафоры и выявление культурных вариаций представляется перспективным. Однако необходимо учитывать сложность этого явления и следовать предложенным рекомендациям по выделению метафоры в языковых корпусах, разбору её по выделенным признакам, а также принимать во внимание структуру концептуальной метафоры и проводить сравнительный анализ на всех её уровнях. В силу того, что это направление исследования находится на этапе становления, необходимы новые данные и дальнейшая разработка комплексных методологических инструментов.
Список литературы Вариативность концептуальной метафоры: культурный аспект
- Арутюнова Н. Д. Метафора и дискурс//Теория метафоры. М.: Прогресс, 1990. С. 5-32.
- Маяковский В. В. Избранные произведения. Стихи. Поэмы. Проза. М.: Детская литература, 1967. С. 631.
- Мишланова С. Л., Исаева Е.В., Полякова С.В. Комплексный подход к изучению метафоры: от знаковой системы к когнитивным процессам//Лингвистические чтения-2012: мат-лы междунар. научн.-практ. конф. Пермь, 15.02. 2012. С. 64-72.
- Потебня А.А. Из записок по теории словесности Фрагменты//Потебня А.А. Слово и миф. М.: Правда, 1989. С. 249-252, 256-260.
- Barcelona A. On the systematic contrastive analysis of conceptual metaphors: case studies and proposed methodology//Applied cognitive linguistics II: Language pedagogy, 2001. P. 117-146.
- Cienki A. Metaphoric gestures and some of their relations to verbal metaphoric expressions//Published in Discourse and Cognition: Bridging the Gap, 1998. P. 189-204.
- Cienki A., Muller C. Metaphor and Gesture. John Benjamins Publishing, 2008. 306 p.
- Fauconnier G., Turner M. The Way We Think: Conceptual Blending And The Mind’s Hidden Complexities. Basic Books, 2008. 464 p.
- Feldman, J. From Molecule to Metaphor. MIT Press, 2006. P. 357.
- Gibbs R. Metaphor and gesture: Some implications for psychology. In Alan Cienki & Cornelia Muller (eds.), Metaphor and Gesture, 2008. P. 291-301.
- Grady, J. A Typology of Motivation for Conceptual Metaphor//Metaphor in Cognitive Linguistics. Amsterdam: John Benjamins, 1999. P. 79-100.
- Johnson, M. Embodied Meaning and Cognitive Science//Language Beyond Postmodernism. Ed. by D. Levin, Evanston ILL.: Northwestern Univ. Press, 1997. P. 148-175.
- Kovecses Z. Metaphor and Emotion. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2003. P. 244.
- Kovecses Z. Metaphor in Culture: Universality and Variation. Cambridge: Cambridge Univ/Press, 2005. 334 p.
- Lakoff G., Turner M. More Than Cool Reason: A Field Guide to Poetic Metaphor. Univ. of Chicago Press, 1989. 230 p.
- Lakoff G., Johnson M. Metaphors We Live By. Chicago: Univ. of Chicago Press, 1980. 242 p.
- Lakoff G., Johnson M. Philosophy in the Flesh. New York: Basic Books, 1999. P. 640.
- Musolff A. Metaphor Scenario Analysis as Part of Cultural Linguistics. tekst i dyskurs -text und diskurs 9, 2016. URL: https://www.academia.edu/30540272/Metaphor_Scenario_Analysis_as_Part_of_Cultural_Linguistics
- Narayanan S. KARMA: Knowledge-Based Action Representations for Metaphor and Aspect. UC Berkeley dissertation, 1997. P. 299.
- Nunez R., Sweetser E. With the Future Behind Them: Convergent Evidence From Aymara Language and Gesture in the Crosslinguistic Comparison of Spatial Construals of Time. Cognitive Science 30, 2006. P. 401-450.
- Pragglejaz Group MIP: A Method for Identifying Metaphorically Used Words in Discourse. Metaphor and Symbol, 22(1), 2007. P. 1-39.
- Steen G. From three dimensions to five steps: the value of deliberate metaphor. metaphorik.de. 21, 2011. P. 83-110.
- Sweetser E. From Etymology to Pragmatics: Metaphorical and Cultural Aspects of Semantic Structure. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1990. 188 p.
- Veale T., Shutova E., Klebanov B.B. Metaphor: A Computational Perspective. Morgan & Claypool Publishers, 2016. 160 p.