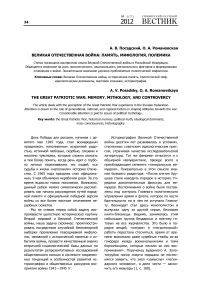Великая отечественная война: память, мифология, полемика
Автор: Посадский Антон Викторович, Романовская Ольга Алексеевна
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: История и историография
Статья в выпуске: 1 (7), 2012 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена восприятию опыта Великой Отечественной войны в Российской Федерации. Обращается внимание на роль поколенческого, национального, регионального факторов в формировании отношения к войне. Значительное внимание уделено проблематике политической мифологии.
Великая отечественная война, историческая память, политический миф, идеологические доминанты, массовое сознание, историография
Короткий адрес: https://sciup.org/14113621
IDR: 14113621
Текст научной статьи Великая отечественная война: память, мифология, полемика
День Победы для россиян, начиная с девятого мая 1945 года, стал всенародным праздником, наполненным искренней радостью, истинной любовью, скорбью, слезами и многими чувствами, которые сложно описать и тем более понять, когда речь идет о глубоко личных переживаниях тех людей, чьи судьбы и жизни «наполнили» историю Отечества. С 1965 года праздник стал официальным, 9 мая объявлено нерабочим днем. За это время выросло новое поколение. Возможно, данный рубеж можно символически рассматривать как начало расхождения путей народной памяти и официальной победной версии войны со все более жестким отсечением неудобных сюжетов.
Мы не ставим перед собой задачу воспроизвести целостную историческую картину Второй мировой и Великой Отечественной войны, наша задача скромнее: проиллюстрировать посредством случайной бесповторной выборки проявления повседневной мифологии, связанной с исторической памятью о событиях войны, провести качественный анализ вторичной социологической базы данных по результатам репрезентативных исследований общественного мнения в контексте современных тенденций и особенностей развития историографии и общественных дискурсов восприятия войны 1941—1945 гг.
Историография Великой Отечественной войны десятки лет развивалась в условиях, стесненных советским идеологическим прессом, утрачивая качества исследовательской литературы. Тот же феномен относится и к обширной мемуаристике, прежде всего в преобладающем сегменте «генеральских мемуаров». Показательно в этом смысле мнение бывшего редактора: «После снятия Хрущева стали наводить порядок в истории. Учредили дополнительные фильтры для мемуаров. Воспоминания о войне были поставлены под контроль Главного политического управления армии и флота, которое по части бдительности ни в чем не уступало Главлиту. Воениздат стал здесь монополистом и выпускал одну за другой серые, безликие книги-близнецы. Видимо, занималась этим небольшая группа бездарных и поэтому готовых на все журналистов. Это было в порядке вещей, «негров» и «негритянской» работы перестали стесняться, время от времени возникали даже судебные тяжбы из-за гонорара между военачальниками и теми борзописцами, которые писали за них воспоминания». Порученец Буденного А. Золо-тотрубов после смерти маршала не постеснялся заявить, что знал «замыслы» «легендарного человека», и дело чести — закончить его мемуары [1, с. 188].
«Литературным костоправом» для воен-издатовской серии «Военные мемуары» поработал в молодости и талантливый Георгий Владимов. Он вспоминал эти своеобразные штудии: «Конечно, рассказывалось в десять раз больше и в сто раз интереснее, чем попадало в книгу. Но, случалось, едва я хватался за карандаш, мои генералы бледнели: «Что вы, это не для записи! Это так, между прочим…». Они, прежде всего, сами себе стали цензорами. Бездну любопытного нарассказал мне и Петро Григорьевич Григоренко, но в его книгу, к моему удивлению, многое не вошло…». В самой серии наиболее интересны моменты сведения счетов — кто-то кого-то не прикрыл, успех присвоил… [2, с. 217].
Многие темы были практически закрыты для изучения. Например, проблема стратегических решений, оценки полководчества советских военачальников, вопросы о потерях Красной армии, обширная тематика коллаборационизма, вопросы военной повседневности и другие. С конца 1980-х годов, с начала реализации фактической свободы слова в СССР и далее, в публицистике и историографии стали подниматься прежде всего те темы, которые долгие годы находились под запретом. Это обстоятельство вызвало своего рода «сгущенный негатив» в понимании Великой Отечественной войны, дегероизацию, неоднозначно воспринимаемую представителями различных поколенческих субкультур.
Традиционно высокая в России роль и миссия литературы заставляет нас рассмотреть некоторые литературные тенденции в осмыслении войны. На поверхности лежит соображение, что в условиях жесткой цензуры литература начинает выполнять более широкую общественную роль. Действительно, знаковые книги, такие как «В окопах Сталинграда» В. Некрасова, становились вехами в осмыслении войны, давали ту правду, те ощущения, которых было не услышать от научного сообщества и управляемой псевдомемуаристики. Не случайно В. Кондратьев [3] взялся за перо поздно, зрелым человеком. Побудительным мотивом стало стремление донести правду о войне, которая не слышалась в литературе, науке, воспоминаниях. Такие проблемы, как цена победы, моральный выбор в жесточайших обстоятельствах, позднейшая рефлексия собственных решений в годы войны, стали ведущими темами в военной прозе Д. Гранина, В. Быкова.
«Июль 41-го» Г. Бакланова затрагивал сюжеты (настроения, причины поражения в первые недели войны), которые были непосильны в те годы для научного осмысления. Многие годы пробивался к правде о войне В. Астафьев. Роман «Пастух и пастушка» переписывался многократно. В позднейших произведениях литература превращается в «нелитературу» — без заботы о сюжете, с употреблением почти непозволительной лексики, без учительского пафоса, без «света в конце тоннеля». В лагерной прозе сходно понимал свои произведения В. Шаламов. Художественно-публицистические опыты А. Адамовича и пошедшей по его стопам С. Алексиевич знаменовали собой, по сути, исполнение литературой обществоведческих функций.
По мнению Г. Владимова, советская литература «в общем достаточно выразила» солдатскую и офицерскую правду войны. А вот с генеральской труднее: «…Когда речь заходит о многих тысячах людей, напрасно загубленных, о том, во что обходится генеральское или маршальское честолюбие, чванство, бессовестность, дурь, профессиональная необразованность, — тут цензура начеку» [2, с. 218]. Как известно, сам писатель создал художественный вариант «генеральской правды» — впечатляющий роман «Генерал и его армия», в котором легко читаема и военная ситуация 1943 года, и прототипы основных персонажей. Эти произведения писались и активно читались, что формировало общественное восприятие и понимание войны.
В 1950—1980-е годы Вторая мировая война отдалялась, СССР официально жил в состоянии мира. Локальных конфликтов было немало, советские военные участвовали в них, однако до Афганистана это участие все же не было масштабным. К тому же оно не афишировалось, участники фактически попадали в положение хранителей государственной тайны, соответственно, и информация распространялась скупо.
Сейчас вступает в жизнь поколение, выросшее в Российской Федерации. Во-первых, они живут в условиях новой информационной и коммуникационной ситуации. Во-вторых, это первое поколение людей, потерявших живую семейную связь с поколением воевав- ших (воевали прадеды). Эти обстоятельства открывают для поколения возможности преодоления устойчивых мифов и нового восприятия войны, с одной стороны, и делают его уязвимым для политических PR-манипуляций — с другой. В-третьих, много молодых людей и людей среднего возраста прошли через тяжелые войны современного типа; бытовой опыт войны, жизни под угрозой, жизни в прифронтовых районах, беженства достаточно широко распространен. Это не может не окрашивать собою восприятие Великой Отечественной войны.
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в преддверии Дня Победы 2010 года обнародовал результаты опроса, проведенного в конце апреля того же года. 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России ответили на вопрос, как они будут отмечать праздник. Делать это, как показал опрос, планировали 85 % россиян, причем такая доля опрошенных оказалась во всех федеральных округах, кроме жителей Урала (68 %) и Дальнего Востока (55 %). Больше других праздновать годовщину Победы собирались пожилые респонденты (91 % против 80 % опрошенных среди молодежи). Не собирались праздновать День Победы порядка 10 % респондентов.
Подавляющее большинство россиян считает День Победы праздником, общим для всех (91 %). В первую очередь так думают пожилые сограждане (95 %) и жители юга России (97 %). 8 % считают, что 9 Мая — праздник только для ветеранов. Чаще других такую позицию высказывают граждане 18—24 лет (12 %) и жители Урала (17 %). Но и те, кто считает праздник всенародным, и те, кто полагает, что это памятная дата только для ветеранов, как правило, собирались отмечать — среди первых это 88 % респондентов, среди вторых — 60 %. Во время проведенного месяцем ранее исследования большинство россиян назвали победу над фашизмом главной победой страны за всю ее историю, значение которой будет только возрастать. Однако 40 % посетовали, что новые поколения россиян уже начинают забывать о Великой Отечественной войне [4].
Теперь обратимся к результатам авторского исследования, основанного, как уже упоминалось, на случайной бесповторной доступной выборке респондентов. Данные являются источниками личного происхождения, поэтому в строгом классическом смысле не обладают репрезентативностью. Но отсутствие этого свойства выборки, на наш взгляд, не отменяет возможности качественного анализа полученных результатов. Итак, на начальном этапе сбора эмпирического материала для получения информации, ориентированной на достижение заявленной цели, мы провели авторское полуструктурированное пилотажное исследование. На вопрос: «Великая Отечественная война» – какие чувства, эмоции, мысли вызывает у вас это сочетание слов?» (в процентах от числа опрошенных за июнь 2011 года (семидесятилетие начала ВОВ), г. Саратов, N = 100 человек (по доступной выборке)) 95 респондентов (соответственно, 95 %) без особых затруднений дали ответ: «Это Победа!; чувствую гордость; погибло много людей, но мы [5] победили». «Затруднились» с ответом 5 респондентов, но про Победу, хотя и неуверенно, вспомнили. Далее, по логике исследования, мы перешли к нарративным интервью, выявляя отношение респондентов к историческим фактам, личностям, достижениям страны. Равнодушие к вопросам заявили 15 % респондентов; 32 респондента в завуалированной форме признались, что не знают истории своей страны, но это не мешает им гордиться Победой; 3 респондента проявили профессиональную осведомленность в вопросах истории Великой Отечественной войны; 46 респондентов (это в основном «дети Советской страны») помнят историю войны по фильмам, книгам и рассказам старших родственников, что аккумулирует представления о героических событиях и ярких достижениях страны. Память 4 респондентов хранит «знания» о кровавых репрессиях, бесславных поражениях, социальных невзгодах, повлекших большие человеческие утраты: «Можно ли гордиться заградотрядами, штрафбатами, командирами, для которых люди — всего лишь пушечное мясо?». (Мы умышленно сохраняем все нарративы повседневной речи респондентов, это, на наш взгляд, придает особую фактурность мифоло-гичности сознания.)
Очевидно, что повседневные представления играют роль ценностных ориентиров, либо отчуждающих от сопричастности к событиям Великой Отечественной войны, либо укрепляющих патриотическое самосознание. Очевиден и третий аспект — мотив равнодушного забвения. Равнодушие к вопросу свидетельствует об отсутствии саморефлексии по проблематике Великой Отечественной войны. Обращаясь за информацией к акторам — носителям «исторической памяти», мы естественным образом прикасаемся к весьма причудливому сочетанию некоторых научных и повседневных (бытовых) представлений об истории в целом, истории России и истории Великой Отечественной войны в частности. Например, рассказывая о «фашистах», респондент воспроизводил историю пиршества врагов на телах русских, затрудняясь при этом назвать источник информации, хронологию военных событий, фамилии участников, имена героев. Другой респондент называл фамилию «маршал Рыбалкин» и был весьма убежден в истинности своих исторических знаний. Подавляющее число респондентов считают, что знать историю своей страны обязательно, но при этом не испытывают дискомфорта от полного или частичного отсутствия самых элементарных знаний на уровне школьной программы по Отечественной истории. По-прежнему высказывание «русский народ — освободитель» не вызывает серьезных возражений на уровне повседневной мифологии россиян. Но, к сожалению, на том же уровне практически отсутствует серьезная саморефлексия проблемы, связанной с резолюцией парламентской Ассамблеи ОБСЕ о возложении равной ответственности за развязывание Второй мировой войны на нацистскую Германию и СССР.
В современной России победа в Великой Отечественной войне на официальном уровне используется как главный фактор общенационального единения, как своего рода героический миф. Такая позиция не вызывает отторжения у подавляющего большинства россиян. На вопрос (исследование ФОМ 17—18 апреля 2010 года; 100 населенных пунктов, 44 субъекта РФ, 2000 респондентов): «На Ваш взгляд, государство должно или не должно поддерживать в народе память о Великой Отечественной войне и о Победе?» утвердительный ответ дали 96 % респондентов! [6].
Таким образом, неизбежная бытовая мифологизация с уходом поколения воевавших и реалий повседневности минувшей эпохи встречается с политическим мифом, выстраи- ваемым средствами агитации и пропаганды. Российская власть вольно или невольно создает из войны 1941—1945 гг. некий «последний бастион», главный идеологический фундамент российского социума. Из-за этого отчуждение от власти и недоверие к официальным политическим клише (уровень таковых нельзя не признать высоким) должны бить по исторической памяти и привычным представлениям о войне. Однако этого, по-видимому, не происходит.
Изучение исторической памяти сегодня является не только респектабельной академической темой, но и востребованным на уровне эмпирического анализа социальным проектом. Историческая память составляет одну из основ осознания человеком своего «я» в семейной родословной и в истории своего народа, понимания нашего «мы» в национальной и культурной общности страны, а также в рамках общечеловеческой цивилизации [7]. Сравнительный анализ социологических репрезентативных жесткоструктурированных, полуструктурированных и неструктурированных исследований за первое десятилетие XXI века свидетельствует, что россиян, к сожалению, можно характеризовать как людей, убежденных в том, что у России великая история, но имеющих очень смутное представление об историческом прошлом своей родины. Это обстоятельство порождает серьезную опасность — общество не замечает, как конструкты заменяют репрезентацию прошлого на вымысел, а наука превращается в фиговый листочек идеологии. Возможно и другое прочтение ситуации. Россияне имеют устойчивый комплекс представлений о величии и значительности своей истории, и эти представления слабо зависят как от степени владения фактическим материалом, «доказывающим величие», так и степени идеологических воздействий. Такая картина не является уникальной. Сравнительные исследования национальных ощущений счастья дали в свое время неожиданный результат. На первых местах оказались отнюдь не самые богатые и благополучные народы. Еще один пример. Народное сознание турок конфликтует с подчеркнуто светской, евроцентричной, антиос-манской правительственной линией, хотя она, в рамках рациональной аргументации, является разумной и выгодной.
С конца 1980-х годов исследовательская литература вышла на новый уровень. Одновременно «успел» появиться массив неподцензурных мемуаров, прежде всего рядовых участников войны, как в печатном [8], так и электронном виде [9]. Любопытно, что в 2005 году вышли воспоминания генерала, быстро ставшие «недоставаемыми». Это книга И . А. То-лконюка [10]: мемуары советского человека, но человека откровенного и действительно размышляющего о драме войны. В результате привычная официальная трактовка и итоги исследовательских усилий могут расходиться, иногда очевидно и даже вопиюще. Один из многих примеров — трактовка Курской битвы. Существует музей-заповедник в Прохоровке (под Белгородом), есть традиция именовать Прохоровское поле «третьим полем России», ставя его в один ряд с Куликовым полем и полем Бородинской битвы, действительно кровопролитнейшими и знаковыми в русской истории сражениями. В то же время современные фундаментальные исследования [11] рисуют картину, не согласующуюся с привычной оценкой.
В последние годы разворачиваются дискуссии как по фундаментальным геополитическим проблемам (сталинская предвоенная стратегия — один из самых «горячих» сюжетов), так и знаковым фигурам («маршал Победы» Г. К. Жуков, «герой или предатель» А. А. Власов). В июне 2010 года Аналитический Центр Юрия Левады («Левада-центр») провел очередной опрос населения. Социологов интересовало видение жителями страны Великой Отечественной войны. Исследование охватило 1600 россиян в возрасте от 18 лет в 130 населенных пунктах 45 регионов страны [12]. 51 % респондентов полагали, что нападение Германии на СССР явилось полной неожиданностью для советского руководства; 40 % — что эти события правительство все же предвидело; 16 % респондентов сочли, что СССР сам планировал нападение на Германию; 69 % придерживались противоположной точки зрения. 12 % россиян, принявших участие в опросе, считали, что одержанной победой мы обязаны Сталину (8 %) и коммунистической партии (4 %); 62 % — что творцом победы был советский народ; 23 % респондентов сочли, что в этом есть заслуга и тех и других; 50 % опрошенных назвали «отца народов» (30 %) и коммунистическую партию вкупе с руководством СССР (20 %) главными виновниками многомиллионных потерь в Великой Отечественной войне. Более четверти опрошенных обвинили в этом наших противников (28 %), 6 % усмотрели в огромных потерях вину «всего народа».
Негативную оценку роли личности Сталина давали прежде всего опрошенные 40—54 лет со средним образованием, живущие в Москве и способные приобрести товары длительного пользования. Компартию склонны обвинять опрошенные 25—39 лет с высшим образованием.
Обрисованным обстоятельствам сопутствует заметная (но никак не преобладающая) струя в общественном сознании, сопряженная с жестким и вызывающим неприятием официально-победной трактовки войны. Эстонец-фронтовик, Герой Советского Союза Арнольд Мери в фильме «Последний герой России» откровенно говорит, что всегда было две Эстонии, одна из них (антикоммунистическая и националистическая) в настоящее время торжествует. Похожа ли ситуация в России? Данный вопрос долгое время мог казаться только нарочито нелепым. Однако сегодня он возникает. Карамельные варианты перестроечного «возрождения» за минувшие двадцать лет сменились реальной политической и идеологической картой, в которой прочное место занимает контрреволюционная, белогвардейская, антибольшевистская линия, без подчисток и изъятий [13]. В этой линии один из значимых компонентов — симпатия к антибольшевистской вооруженной борьбе в союзе с Германией в 1941—1945 гг., отрицание характера войны как «Отечественной», рассмотрение ее как «второй гражданской» или «продолжения гражданской». Исторические исследования по теме, ставшие доступными западные исследования и корпус мемуаристики сформировали достаточно четкое общее представление о сюжете.
Интересно, что тема является одной из горячих в интернет-сообществах. Непрофессиональные по формальной принадлежности сообщества нередко дают высокий уровень изучения и научной оперативности, заставляя академическую науку нуждаться в солидной форе. При этом, условно говоря, «власовская» тема начинает звучать с нотками понимания в массовой культуре. Яркий пример — эпизод в нашумевшем фильме «Штрафбат».
Таким образом, формируется провоцирующая ситуация: официальная героизация войны и победы вряд ли противоречит массовому восприятию этой войны, в то же время накопленный новый обширный фактический материал живет обособленной жизнью в рамках академических и иных немногочисленных сообществ, неслышимый массовым сознанием. Надо полагать, что при годами мифологизировавшейся истории войны такая ситуация должна быть признана неизбежной. Однако смена поколений создает и новые возможности, и новые риски.
Интересно также исследовать, насколько горячие споры о политическом измерении войны (версия В. Суворова и др.) заслоняют понимание «тяглового» подвига солдата и народа в целом, внимание к войне как огромному совокупному опыту миллионов человек, вне зависимости от политических ориентаций и неизбежных последующих аберраций памяти.
Самостоятельный феномен — довольно широкий интерес к эпопее Локотского самоуправления на Орловщине. Бытует даже определение «Локотская Русь» как инвариант национальной России в противовес СССР. При этом современные национальные радикалы готовы понимать себя именно как продолжателей РОНА, а не РОА [14]. Действительно, РОНА гораздо упречнее с точки зрения либеральных представлений, но и очевидно поч-веннее и самостоятельнее, чем РОА.
Есть еще один интересный сюжет, более чем актуальный в современных социальнополитических обстоятельствах. В официальной версии войны неизменно подчеркивалась роль всех народов Советского Союза в общей победе как на фронте, так и в тылу. В значительной степени это справедливо. Действительно, среди героев Советского Союза, например, неединично присутствуют представители многих народов СССР. Соединения Красной армии были, как правило, многонациональными. В то же время война обнаружила и очевидно различную мотивацию в войне представителей разных народов, и разные стратегии поведения как на фронте, так и в тылу. В конце войны самоназвание-обращение «славяне» (в художественной литературе этот мотив силен у писателя-фронтовика Ю. Бондарева) можно считать признанием того факта, что русский (в прежнем историческом смысле) вклад в победу воспринимался как однозначно определяющий. И сталинский имперский фасад после войны выстраивался с пропагандистским упором на русское начало и концепцию «старшего брата». В самом деле, фильм «Отец солдата» с колоритным и очень симпатичным грузином в главной роли появился в 1964 году и вряд ли мог появиться десятью годами ранее.
Среди фронтовиков представления о ненадежности, низких боевых качествах кавказцев и среднеазиатов были, видимо, довольно широко распространены. Осенью 1943-го ребенка — будущего академика Жореса Алферова — удивили слова старшего брата Маркса — отпускного фронтовика. «Сравнивая сталинскую бригаду, в которой он воевал всю Сталинградскую битву, и гвардейскую дивизию, сформированную из двух сталинских бригад после победы в Сталинграде, Маркс отметил, что в сталинских бригадах все было лучше — и снабжение, и личный состав, особенно потому, что он был в основном русский и нацменов практически не было. Про последних он сказал: — Ты его в атаку поднимаешь, а он кричит: «Курсак болит», приставишь к «курсаку» (животу) пистолет — тогда боли у него прекращаются и он встает идти в бой» [15, с. 31]. Пример тем более показателен, что семья была интернациональной и по происхождению, и по убеждениям — из-под Полоцка, а имена детей четко говорят о политической ориентации родителей. Можно встретить откровенно презрительное отношение молодых советских командиров к нацменам, если использовать советское выражение. Надежности русских противопоставляется ненадежность, неумелость «елдашей» и «юсупов» [16, с. 330—331, 338—339, 347, 351]. В солдатских мемуарах можно обнаружить те же мотивы: в столовой норовят по две порции, а после обеда занятия, — «так эти солдаты упадут на землю и кричат дурью: «Юлдаш командыр! Курсак больной! Моя не может ходить». Это значит, что он уже объелся и двигаться не может. А через некоторое время они начинают поговаривать: «Юлдаш командыр, курсак пустой». Это значит — он хочет есть. Вот у них была забота: как бы поесть и после полежать» [17, с. 267—268, 282—283].
Силен был в армии и населении антисемитизм. Во второй половине войны интеллигентного еврея посещали такие соображения:
«Меня не покидала мысль о политической, быть может, дипломатической карьере — мечта эта возникла еще до войны. Я начинал понимать: то, что я — еврей, этому может только помешать. Зловонные облака антисемитизма клубились вокруг. С юдофобией я сталкивался в армии на каждом шагу, я постоянно ощущал ее в солдатской среде, то же самое было и среди офицеров. Значит, и в армии, и после демобилизации лучше не быть евреем» [18]. Известны издевательские выражения «пятый украинский фронт», «евреи взяли штурмом Ташкент» и т. п., которыми подчеркивалось стремление и умение еврейского населения устраиваться в тылу. Между тем фактически это неверно. В Яд ва-Шем (Институт памяти жертв Катастрофы и героев еврейского Сопротивления) представлены и официальные документы МО СССР. Из них следует, что в 1941 году более 500 тысяч евреев пошли, по мобилизации и добровольно, «защищать свою советскую Родину». Это составляло 16 % от числа евреев — граждан СССР, в 1941 году 78—80 % «воинов-евреев» были рядовыми и сержантами. Из 500 000 погибли 200 000. 132 стали героями, в том числе 45 посмертно. Известно 305 евреев-генералов: Доватор, Крейзер, Драгунский и др. [19, с. 245]. Таким образом, современные представления о национальной ипостаси войны также оказываются остро актуальными.
Обрисованные обстоятельства делают интересным исследование современного восприятия войны в России через призму исторической памяти, что, в свою очередь, требует предельной бережности обращения, так как она аккумулирует и живую память, и последствия жесточайших идеологических воздействий, и работу внутренних ограничений (невер-бализуемое, «невспоминаемое» не передается следующим поколениям), и результат общих представлений о должном и нормальном у того или иного поколения и индивида.
Ленин не зря называл Льва Толстого «зеркалом русской революции». В самом деле, многие духовные процессы в русском обществе, вступающем в жестокий системный кризис, отразились в исканиях и заблуждениях великого писателя. Однако нам кажется, что толстовские ощущения потока жизни, который скорректирует планы, притушит амбиции и вынесет на правильный путь, являются верными. Представления о войне у граждан
РФ меняются под воздействием новой информации; очевидны поколенческие и региональные различия. Последнее представляется важным и интересным сюжетом для самостоятельного изучения. Регионалистика, в том числе в ипостаси исследования региональной исторической памяти, имеет широкие возможности для своего развития. В российском социуме появились взгляды, непредставимые в публичном пространстве еще два десятка лет назад. В то же время базовое восприятие войны россиянами не оказалось взорвано ни огромным массивом сведений, казалось бы, рушащих официальные клише, ни распадом СССР, ни новой идеологической парадигмой.
-
1. Лазарев, Л. Записки пожилого человека / Л. Лазарев // Знамя. 1997. № 2.
-
2. Владимов, Г. Н. Нужна «посадочная площадка». Интервью журналу «Форум» / Г. Н. Вла-димов // Собр. соч. : в 4 т. Т. 4. Литературная критика и публицистика. Избранные статьи, выступления, открытые письма, интервью. М. : NFQ/2Print, 1998.
-
3. Первая повесть «Сашка», ставшая визитной карточкой творчества В. Л. Кондратьева (1920—1993), была опубликована в 1979 году.
-
4. См.: ВЦИОМ. Режим доступа: http://wciom.ru/ index.php?id=275&search
-
5. Выделение авторское, с целью подчеркнуть смысловую нагруженность этого местоимения.
-
6. См.: ФОМ. Режим доступа: http://bd.fom.ru/ report/map/dominant/dom1015/d101513
-
7. См.: ФОМ. Режим доступа: http://bd.fom.ru ; ВЦИОМ. Режим доступа: http://www.wciom.ru ; Левада-центр. Режим доступа: http://www. urokiistorii.ru/memory/research/levada
-
8. См., например: Иванов, В. М. Война глазами лейтенанта. 1941—1945 годы / В. М. Иванов. СПб., 2001.
-
9. Одним из ярких начинаний стал интернет-проект «Я помню»: http://www.iremember.ru/
-
10. Толконюк, И. А. Раны заживают медленно. Записки штабного офицера / И. А. Толконюк. М. : Троица, 2005 (Отклик: Смирнов, А. Наступление ради наступления. О записках генерала Иллариона Толконюка / А. Смирнов // Родина. 2008. № 5. С. 30—34).
-
11. См.: Соколов, Б. В. Сражение за Курск, Орел и Харьков. Стратегические намерения и результаты / Б. В. Соколов // Правда о Великой Отечественной войне : сб. ст. СПб. : Алетейа, 1998; Замулин, В. Н. Прохоровка — неизвестное сражение великой войны / В. Н. Замулин. М. : Транзиткнига, АСТ, 2006; Замулин, В. Н.
-
12. http://www.levada.ru/press/2010061807.html .
-
13. Отметим два проекта, обозначающие эту тему: Пушкарев, Б. С. Две России ХХ века. Обзор истории 1917—1993 / Б. С. Пушкарев. М. : Посев, 2008 и, как развитие предшествующего: История России. ХХ век / отв. ред. А. Зубов. Т. 1. 1894—1939; Т. 2. 1939—2007. М. : АСТ, 2009.
-
14. См., например: http://forum.17marta.ru/index . php?topic=5043.10;wap2.
-
15. Алферов, Ж. О прошлом для будущего / Ж. Алферов // Наука и жизнь. 2004. № 6.
-
16. См., например: Фронтовой дневник Н. Ф. Белова: 1941—1944 гг. / Вводная ст. А. В. Те-рещука ; подгот. текста Н. И. Баландина ; коммент. А. В. Терещука и В. Б. Конасова // Русское прошлое: Историко-документальный альм. Кн. 6. СПб. : Изд-во СПб. ун-та, 1996.
-
17. См.: Решетников, В. Русский солдат. Документальная повесть / В. Решетников // Молодая гвардия. 2005. № 1—2.
-
18. http://aboriginals.narod.ru/doroga_v_Avstraliiu9 . html.
-
19. Либман, Г. И. Тайны земли обетованной (Поездка в Израиль) / Г. И. Либман, М. Ф. Марь-яновский // Россия и современный мир. 1996. № 2.
Курский излом. Решающая битва Отечественной войны / В. Н. Замулин. М. : Яуза, Эксмо, 2007; Замулин, В. Н. Засекреченная Курская битва. Неизвестные документы свидетельствуют / В. Н. Замулин. М. : Яуза, Эксмо, 2007; Замулин, В. Н. Забытое сражение Огненной Дуги / В. Н. Замулин. М. : Яуза, Эксмо, 2009; Лопуховский, Л. Н. Прохоровка без грифа секретности / Л. Н. Лопуховский. М. : Эксмо, 2007; Горбач, В. Авиация в Курской битве. Над Огненной Дугой / В. Горбач. М. : Эксмо, 2008.
Список литературы Великая отечественная война: память, мифология, полемика
- Лазарев Л. Записки пожилого человека/Л. Лазарев//Знамя. 1997. № 2.
- Владимов Г. Н. Нужна «посадочная площадка». Интервью журналу «Форум»/Г. Н. Владимов//Собр. соч.: в 4 т. Т. 4. Литературная критика и публицистика. Избранные статьи, выступления, открытые письма, интервью. М.: NFQ/2Print, 1998.
- Первая повесть «Сашка», ставшая визитной карточкой творчества В. Л. Кондратьева (1920-1993), была опубликована в 1979 году.
- ВЦИОМ. Режим доступа: http://wciom.ru/index.php?id=275&search
- Выделение авторское, с целью подчеркнуть смысловую нагруженность этого местоимения.
- ФОМ. Режим доступа: http://bd.fom.ru/report/map/dominant/dom1015/d101513
- ФОМ. Режим доступа: http://bd.fom.ru; ВЦИОМ. Режим доступа: http://www.wciom.ru; Левада-центр. Режим доступа: http://www. urokiistorii.ru/memory/research/levada
- Иванов В. М. Война глазами лейтенанта. 1941-1945 годы/В. М. Иванов. СПб., 2001.
- Одним из ярких начинаний стал интернет-проект «Я помню»: http://www.iremember.ru/
- Толконюк И. А. Раны заживают медленно. Записки штабного офицера/И. А. Толконюк. М.: Троица, 2005 (Отклик: Смирнов А. Наступление ради наступления. О записках генерала Иллариона Толконюка/А. Смирнов//Родина. 2008. № 5. С. 30-34).
- Соколов Б. В. Сражение за Курск, Орел и Харьков. Стратегические намерения и результаты/Б. В. Соколов//Правда о Великой Отечественной войне: сб. ст. СПб.: Алетейа, 1998
- Замулин В. Н. Прохоровка -неизвестное сражение великой войны/В. Н. Замулин. М.: Транзиткнига, АСТ, 2006;
- Замулин В. Н. Курский излом. Решающая битва Отечественной войны/В. Н. Замулин. М.: Яуза, Эксмо, 2007
- Замулин В. Н. Засекреченная Курская битва. Неизвестные документы свидетельствуют/В. Н. Замулин. М.: Яуза, Эксмо, 2007
- Замулин В. Н. Забытое сражение Огненной Дуги/В. Н. Замулин. М.: Яуза, Эксмо, 200
- Лопуховский Л. Н. Прохоровка без грифа секретности/Л. Н. Лопуховский. М.: Эксмо, 2007
- Горбач В. Авиация в Курской битве. Над Огненной Дугой/В. Горбач. М.: Эксмо, 2008.
- http://www.levada.ru/press/2010061807.html.
- Отметим два проекта, обозначающие эту тему: Пушкарев Б. С. Две России ХХ века. Обзор истории 1917-1993/Б. С. Пушкарев. М.: Посев, 2008
- История России. ХХ век/отв. ред. А. Зубов. Т. 1. 1894-1939; Т. 2. 1939-2007. М.: АСТ, 2009.
- http://forum.17marta.ru/index. php?topic=5043.10;wap2.
- Алферов Ж. О прошлом для будущего/Ж. Алферов//Наука и жизнь. 2004. № 6.
- Фронтовой дневник Н. Ф. Белова: 1941-1944 гг./Вводная ст. А. В. Терещука; подгот. текста Н. И. Баландина; коммент. А. В. Терещука и В. Б. Конасова//Русское прошлое: Историко-документальный альм. Кн. 6. СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 1996.
- Решетников В. Русский солдат. Документальная повесть/В. Решетников//Молодая гвардия. 2005. № 1-2.
- http://aboriginals.narod.ru/doroga_v_Avstraliiu9. html.
- Либман Г. И. Тайны земли обетованной (Поездка в Израиль)/Г. И. Либман, М. Ф. Марьяновский//Россия и современный мир. 1996. № 2.