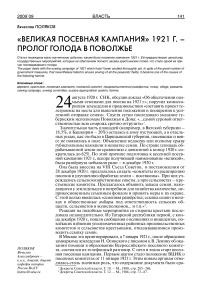"Великая посевная кампания" 1921 г. - пролог голода в Поволжье
Автор: Поляков Вячеслав Александрович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: История
Статья в выпуске: 9, 2009 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена мало изученному событию, каким была посевная кампания 1921 г. Ей предшествовал целый ряд государственных мероприятий, которые не обеспечили полного засева крестьянских полей, что стало одной из причин последовавшего голода.
Деревня, крестьяне, посевная кампания, посевной комитет, продовольственная развёрстка, голод
Короткий адрес: https://sciup.org/170165015
IDR: 170165015
Текст научной статьи "Великая посевная кампания" 1921 г. - пролог голода в Поволжье
августа 1920 г. СНК, обсудив доклад «Об обеспечении озимыми семенами для посева на 1921 г.», поручил комиссариатам земледелия и продовольствия «составить проект телеграммы на места для выяснения положения и поощрения к усиленной отправке семян». Спустя сутки последовало указание губернским исполкомам Поволжья и Дона: «…самой суровой ответственностью всю семрожь срочно отгрузить»1.
Значительная часть площадей (например, в Вятской губернии – 18,5%, в Башкирии – 20%) осталась в зиму пустующей, а в отдельных уездах, как это было в Царицынской губернии, посевщики и вовсе не появились в поле. Объяснение недосеву или полному срыву губисполкомы находили в нехватке семян. По стране площадь обрабатываемой земли по сравнению с довоенной к концу 1920 г. сократилась до 62%. По этой причине подготовка к весенней посевной кампании 1921 г., вскоре получившей наименование «великой», была развёрнута небывало рано – в декабре 1920 г.
Она была внесена на VIII Съезд Советов, в постановлении от 28 декабря 1920 г. предлагалось создать «комитеты по расширению посевов и улучшению обработки земли – посевкомы». При них учреждались сельскохозяйственные советы, а при сельсоветах – крестьянские комитеты. Предлагалось объявить запасы семян, находящиеся у земледельцев в потребном для хозяйства количестве, неприкосновенным семенным фондом и принять меры к их охране. С этой целью вводилась «семенная развёрстка; ссыпка семян в мешках в общественные амбары под ответственность сельских обществ, сельсоветов и волисполкомов… и т.п.»2.
Реакция на подобные мероприятия со стороны крестьян последовала незамедлительно. Из Татарской республики первой, с конца декабря 1920 г., пошли сообщения о волнениях и инцидентах, повлёкших избиения уполномоченных районных продовольственных комитетов и сельсоветов крестьянами, отказывавшимися производить ссыпку семян.
В Москве это проигнорировали, а 7 января 1921 г., после обращения замнаркома земледелия Н. Осинского с письмом к В. Ленину об оказании помощи в образовании Всероссийского посевного комитета, состоялся их телефонный разговор. С него и взяла старт весенняя посевная кампания. Первым шагом стало положение ВЦИК о посевных комитетах от 11 января 1921 г. Этим новым органам отводилась столь значимая роль, что содержание документа было сра- зу доведено до исполнительных и продовольственных комитетов. В нём предлагалось создать губернские и уездные посев-комы, не позднее 25 января созвать съезды представителей и немедленно сообщить: «…цифры площадей обязательного засева по культурам; цифры заданий по семфонду; …принятый способ сохранения семян и принятый способ обеспечения ими недостаточных хозяйств»1.
Столь детальные указания стали эталоном и для тех, что появятся на местах. Так, 25 января 1921 г. в Саратовской губернии вышел бюллетень Сердобского уездного комитета (Упосевкома), где начало «великой посевной кампании» было обусловлено «преодолением чрезвычайно трудных задач: 1) обеспечить крестьянские хозяйства семенным материалом; 2) расширить посевную площадь; …и 4) регулировать сельское хозяйство путём планового засева».
Но постановка задач ещё не давала гарантий их выполнения, а вот сценарии подготовки весеннего сева и в других регионах Поволжья были схожими. Разница заключалась в сроках проведения мероприятий. В числе первых, вслед за Татарской АССР, отреагировали симбирцы, которые 10 января 1921 г. на заседании губ-кома РКП(б) постановили: «Написать 2 циркуляра о борьбе с пьянством и подготовке к весенней кампании». В последнем из них констатировалось, что «гнилое сельское хозяйство заставило обратить на себя внимание потому, что ежегодные недосевы хлебных и технических культур властно указывали на неизбежность сельскохозяйственного кризиса…»2.
Он стал результатом того курса, на какой страну повернуло кремлёвское руководство. По «Инструкции СНК о порядке и способах создания семенного фонда и сохранения семян для полного засева», датированной 25 января 1921 г., «заготовка семян по развёрстке производится продорганами обычным порядком, применяемым при проведении продразвёрстки». Выражение «обычный порядок» подтверждало сохранение ставшего обычным голода. Именно словом «голод» обозначил ситуацию наркомат продовольствия, отчёт котор ого «Три года борьбы с голодом.
Краткий отчёт о деятельности Народного комиссариата по продовольствию за 1919– 20 год» Ленин использовал 22 декабря 1920 г. в своём докладе на VIII Съезде Со-ветов3.
С началом сбора семян внутреннее положение страны стало ещё более тревожным. В середине января 1921 г. в НКВД стали поступать доклады о крестьянских выступлениях в Самарской и Пензенской губерниях, Чувашской автономной области, причиной которых являлось «неостав-ление семян и конфискация другого имущества за невыполнение развёрстки». В рапортах из военного ведомства причиной восстаний называлось недовольство продовольственной политикой, нежелание ссыпать семена. Повстанцы громили во-лисполкомы, расправлялись с продработ-никами.
Призывы о помощи пошли в центр, в ответ 27 января последовала «Инструкция СНК о порядке составления плана обязательного засева». В ней объяснялась методика сбора «сведений о запасах семян у населения», опять упоминалось о развёрстке через «использование… б) сведений о запасах зерна предыдущих годов, обнаруженных у крестьян в процессе продразвёрстки…».
6 марта уполномоченный по Симбирской губернии невыполнение заданий по вывозу хлеба объяснил «сопротивлением крестьян и непригодностью отряда в 95 человек, каковой пришлось отвести с работы…». А недовольство крестьян продолжало нарастать. В Саратовской губернии 80% колхозов и совхозов были раз-громлены4. Поэтому в марте последовал ряд важных решений по координации посевной кампании, а на Х Съезде РКП(б) был провозглашён новый курс в аграрной политике. 8 марта 1921 г. на места под грифом «Семенная» ушла «Директива В.И. Ленина и наркома продовольствия А.Д. Цюрупы губпродкомиссарам о форсировании отгрузки семян в потребляющие губернии». Адресованная в 16 пунктов, включая Пензу, Самару, Саратов, Симбирск, Уфу и Казань, она констатировала: «…органи-зация планового засева в потребляющих губерниях ставится под угрозу». Вслед за этим предписывалось губвоенкомиссарам счи- тать задание по отправке семян боевым до полной его реализации.
Но жёсткая директива особого действия не возымела. Крестьянское недовольство оставалось. 13 марта 1921 г. царицынская губчека телеграммой информировала, что «посевная кампания завершается совершенно неудачно». Такая оценка спецслужб соответствовала истинному положению дел и была относима ко всей стране. Восстание в Кронштадте, острая дискуссия на съезде партии на время отвлекли В.И. Ленина и его ближайшее окружение от проблем деревни.
Но ситуация ухудшалась и была близка к катастрофе. На подготовку к весеннему засеву крестьянских полей не повлияло и совместное предписание СТО, Наркомзе-ма, ВСНХ от 21 марта. И в этом документе опять тиражировался призыв то «принять срочные реальные меры», то отчитаться обо «всех принятых мерах помощи посевкампании». Крестьяне, испытывавшие голод, спасение видели не только в продуктах питания, но и не могли представить свое будущее без засеянных полей. Именно поэтому накал борьбы за семена продолжал нарастать. Сообщения были равнозначны фронтовым сводкам.
Недостаток семян, который испытывала вся страна, обусловливался не природ- ным катаклизмом, а характером деятельности людей. Столь неудачно прошедшая «великая посевная кампания» давала основание для отрицательного вердикта деятельности селькомов. Провал был налицо. Если по стране посевные площади 1921 г. относительно 1920 г. сократились на 7,1%, а под зерновыми культурами – на 8,3%, то в Поволжье упадок стал многократно большим. Из-за нехватки семян зерновых культур площади посевов составили: в Нижегородской губернии – 92%, в Марийской автономной области – 64,9%, в Башкирии – 49,3%, в Симбирской губернии – до 50%, в Самарской губернии – 65%, в Саратовской губернии – до 60%, в Области немцев Поволжья – всего лишь 10%. В отчёте Чувашской автономной области прямо констатировалось, что «тем самым создали полный голод на местах»1.
В этом выводе о «полном голоде» фактически заключается обобщённый итог «великой посевной», обернувшейся недосевом и ставшей прологом голода, который ещё раз подтвердил полную исчерпанность системы продовольственной развёрстки.