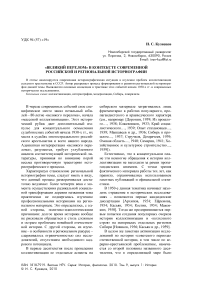«Великий перелом» в контексте современной российской и региональной историографии
Автор: Кузнецов Иван Семенович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 1 т.9, 2010 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется современная историографическая ситуация в изучении проблем коллективизации сельского крестьянства в СССР. Автор раскрывает процесс формирования и развития региональной историографии данной темы. Выявляются основные концепции в трактовке этих событий начала 1930-х гг. в современных исторических исследованиях.
Коллективизация, историография, модернизация, сибирь, плюрализм
Короткий адрес: https://sciup.org/14737176
IDR: 14737176 | УДК: 94
Текст научной статьи «Великий перелом» в контексте современной российской и региональной историографии
В череде современных событий свое специфическое место занял печальный юбилей - 80-летие «великого перелома», начала «массовой коллективизации». Этот исторический рубеж дает дополнительный импульс для концептуального осмысления судьбоносных событий начала 1930-х гг., их места в судьбах многострадального российского крестьянства и всего нашего народа. Адекватная интерпретация «великого перелома», разумеется, требует углубленного анализа соответствующей исторической литературы, принимая во внимание порой весьма противоречивую траекторию историографического процесса.
Характеризуя становление региональной историографии темы, следует иметь в виду, что данный процесс разворачивался достаточно медленно: более четверти века с момента осуществления радикальной социальной трансформации деревни названная тема практически не подвергалась изучению профессиональными историками на региональном материале. Это определялось, с одной стороны, политико-идеологическими причинами: долгое время историки вообще не рисковали обращаться к столь сложным и острым проблемам новейшей отечественной истории. С другой стороны, их изучение - в особенности в региональном ракурсе -сдерживалось ограниченностью сил исследователей, отсутствием необходимого кадрового потенциала.
В первые десятилетия после проведения коллективизации ее отдельные аспекты на сибирском материале затрагивались лишь фрагментарно в работах популярного, пропагандистского и краеведческого характера (см., например: [Доронин, 1939; Из прошлого^, 1938; Кожевников, 1933; Край социалистического^, 1939; Опыт стахановцев..., 1939; Маккавеев и др., 1936; Сибирь в прошлом..., 1937; Стручков, Домрачеев, 1939; Омская область..., 1940; Самарин, 1941; Хозяйственное и культурное строительство..., 1939]).
Естественно, что в концептуальном плане эти немногие обращения к истории коллективизации не выходили за рамки пропагандистских штампов. С точки зрения фактического материала работы тех лет, как правило, ограничивались использованием газетных публикаций и официальной статистики.
В 1950-е данная тематика начинает находить отражение в исторических исследованиях - появляются первые кандидатские диссертации [Архипов, 1954; Ефремова, 1954; Касьян, 1954; Костин, 1954; Маков-кин, 1950]. Тогда же предпринимаются первые попытки создания популярных очерков истории коллективизации и «колхозного строя» на материалах отдельных регионов Сибири [Новиков, 1956; Касьян и др., 1959].
В целом же заметная активизация исследований по истории «советского периода» отечественной истории, в том числе по аграрно-крестьянской проблематике, намечается со второй половины названного десятилетия, что в определяющей мере было
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2010. Том 9, выпуск 1: История © И. С. Кузнецов, 2010
связано с политико-идеологическими сдвигами в стране в послесталинский период.
Эти социально-исторические предпосылки на региональном уровне реализовались преимущественно со второй половины 1960-х гг., когда появляются первые обобщающие труды по истории коллективизации Западной и Восточной Сибири, – работы Ф. С. Пестрикова [1966] и И. С. Степичева [1966]. Особенно заметным явлением стала последняя работа, которая, собственно, явилась первой объемной книгой (более 700 страниц текста) о коллективизации сибирской деревни.
Названные труды отразили определенное переходное состояние в генезисе историографии рассматриваемой темы. С одной стороны, в отличие от предшествующего периода, они представляли собой работы профессиональных историков, воссоздавшие процесс коллективизации сибирской деревни с большой степенью конкретности (особенно книга И. С. Степичева). Однако они по-прежнему были основаны на ограниченном круге источников, значительная же часть приоритетных архивных документов по данной теме к тому времени еще не была введена в научный оборот. При этом в концептуальном плане названные труды отличались ярко выраженным схематизмом (особенно работа Ф. С. Пестрикова), однозначным следованием сталинской версии коллективизации, отсутствием элементов альтернативного подхода даже в пределах возможного в то время. Определенным итогом данного – первоначального этапа изучения коллективизации сибирской деревни историками стало ее освещение в четвертом томе «Истории Сибири» [1968].
Принципиальным рубежом в историографии темы явилось издание в первой половине 1970-х гг. трудов Н. Я. Гущина. В 1972 г. вышла его работа «Классовая борьба и ликвидация кулачества как класса в сибирской деревне (1926–1933)», которая опубликована как «курс лекций, прочитанный в Новосибирском государственном университете». В следующем году была издана наиболее фундаментальная работа названного автора – монография «Сибирская деревня на пути к социализму» [Гущин, 1973]. Названная книга и по сегодняшний день остается одной из самых значительных работ по истории коллективизации не только на региональном, но и на общероссийском уровне. Можно сказать, что именно Н. Я. Гущин стал родоначальником кон- кретного, основанного на фундаментальной источниковой базе изучения истории коллективизации сибирской деревни.
При этом, разумеется, в концептуальном плане труды названного автора в полной мере следовали официальной схеме коллективизации, идущей от Сталина, от «Краткого курса истории ВКП(б)». Это в том числе известные положения об «обострении классовой борьбы», закономерности и прогрессивности коллективизации, необходимости «ликвидации кулачества как класса» и его «трудового перевоспитания».
Вместе с тем основная монография Н. Я. Гущина и другие его труды, в отличие от ранее названных работ, были на уровне всех научных новаций того времени. Различные свежие идеи, дискуссионные положения – хотя бы и по относительно частным вопросам, высказывавшиеся, скажем, в исследованиях В. П. Данилова, на сессиях Аграрного симпозиума, в полной мере нашли отражение в рассматриваемых работах. Это, в частности, дискуссионные подходы о принципах социальной стратификации «до-колхозного» крестьянства, «зрелости материальных и духовных предпосылок коллективизации», принципиальной возможности «мирного вытеснения кулачества», о соотношении различных форм колхозного движения. Главное же новшество заключалось в беспрецедентно широкой источниковой базе, использовании всех доступных в то время опубликованных и архивных материалов. Небывало широкое вовлечение в научный оборот фактического материала в трудах Н. Я. Гущина, помимо прочего, давало в какой-то мере возможность представлять реальную картину коллективизации вопреки общепринятой схеме.
Подходы к истории коллективизации сибирской деревни, определившиеся в трудах первой половины 1970-х гг., в какой-то мере получили продолжение в последующих исследованиях, в частности в коллективных монографиях о сибирском крестьянстве довоенных лет, «историографии крестьянства советской Сибири» и «союзе рабочего класса и крестьянства» [Гущин и др., 1975; Историография крестьянства…, 1976; Гущин и др., 1978].
В наиболее концентрированном виде данные исследовательские ориентиры, сформировавшиеся к концу «советского периода», нашли выражение во многотомном труде по истории крестьянства Сибири [Крестьянство Сибири…, 1983]. В целом по своей источниковой базе и концептуальным подходам названное издание соответствовало сложившимся традициям, хотя в нем отмечались некоторые тематические новшества, в частности, большее место в сравнении с предшествующими трудами было отведено вопросам культуры и быта крестьянства.
Это сочетание определенных тематических новаций и вместе с тем преобладающих традиционных подходов прослеживается и в книге о «классовой борьбе в сибирской деревне», вышедшей в начале «перестройки» [Гущин, Ильиных, 1987].
Радикальная трансформация российского общества на рубеже 1980–1990-х гг. обусловила фундаментальные изменения и в исторической науке, в том числе в историографии рассматриваемой темы. С этого момента происходит значительное, по некоторым позициям – кардинальное расширение источниковой базы. Вместе с тем резко меняются концептуальные подходы, создаются возможности для преодоления схематизма и догматизма. Характерной чертой современной историографической ситуации становится идейно-методологический плюрализм. Прослеживаются различные подходы к коллективизации сельского хозяйства в СССР. Для одних исследователей – это трагедия крестьянства, воплощение тоталитарного террора; для других, несмотря на огромные издержки, – своеобразная форма модернизации; для третьих – выражение национальной или цивилизационной специфики.
Сложность выработки приемлемой концепции коллективизации в немалой степени определяется по-прежнему сохраняющейся недостаточной изученностью данного процесса на региональном уровне. Кардинальной характеристикой современной региональной историографической ситуации является отсутствие на данном этапе фундаментального труда, который бы в обобщенном виде раскрыл тему на современном фактологическом и концептуальном уровне. К настоящему времени из различных аспектов истории коллективизации сибирской деревни наиболее фундаментальную исследовательскую разработку получили две взаимосвязанные темы: 1) «раскулачивание» и последующая судьбы «спецпересе- ленцев»; 2) налогово-податная политика как важнейший механизм «раскрестьянивания».
Важным шагом в данном направлении стал выпуск в 1992–1994 гг. под руководством В. П. Данилова и С. А. Красильникова трех серийных сборников документов, посвященных «спецпереселенцам» в Западной Сибири [Спецпереселенцы…, 1992; 1993; 1994]. В 1996 г. была опубликована единственная пока в своем роде монография Н. Я. Гущина о «раскулачивании» в сибирской деревне, которая вышла уже после кончины ученого [Гущин, 1996]. Она может рассматриваться в качестве первого шага к радикальному пересмотру прежних подходов, не только потому, что отразила переходное концептуальное состояние, но и в силу своих небольших размеров. Принципиальным рубежом в изучении данной темы стала книга С. А. Красильникова о крестьянской ссылке в Западной Сибири в 1930-е гг. [Красильников, 2003]. В настоящее время она является наиболее фундаментальной работой по проблемам коллективизации в Сибири.
Тема налогово-податной политики как орудия «раскрестьянивания» получила всестороннее отражение в серийном издании хроникально-документального жанра «Политика раскрестьянивания в Сибири», подготовленной под руководством В. А. Ильиных. При этом для рассматриваемой темы имеют приоритетное значение первые два выпуска [Политика раскрестьянивания…, 2000; 2002]. Названный исследователь дал и монографическую разработку данной темы, в частности, значительная часть его труда, охватывающего конец 1920-х – начало 1950-х гг., отведена периоду коллективизации [Ильиных, 2004].
Если брать современную историографию «великого перелома» в целом – с учетом общероссийского и регионального ее сегментов – то важнейшей чертой современной историографической ситуации следует признать методологический плюрализм, отсутствие «единственно верной» или общепринятой концепции «коллективизации». Причем до недавнего времени (со времен «перестройки») казалось очевидной интерпретация этих событий как величайшей трагедии российского крестьянства, порожденной тоталитаризмом. Наиболее последовательное воплощение этой концепции мы видим в фундаментальном пятитомном из- дании документов по истории коллективизации, что отразилось уже в самом его названии [Трагедия советской деревни…, 1999–2004]. Из новейших же работ регионального характера ярким примером воплощения подобной концепции могут служить названные труды В. И. Ильиных и С. А. Красильникова.
Вместе с тем в настоящее время по этому поводу прослеживаются воззрения противоположного толка, рассматривающие «советский строй» как исторически закономерный, прогрессивный, обусловленный цивилизационной спецификой России (коллективист-ски-общинными традициями и т. д.) (см. особенно: [Кара-Мурза, 2001. С. 392–401]). Наконец, некоторые авторы связывают «коллективизацию» с условиями развития страны (необходимость форсированной индустриализации, задачи обороны и т. д.) и трактуют ее как определенную форму модернизации (пусть и очень специфической – «консервативной») [Вишневский, 1998].
При этом, несмотря на значительный прогресс в изучении темы за последние два десятилетия, многие кардинальные вопросы остаются недостаточно проясненными. Речь идет, в частности, о глубинных предпосылках «коллективизации», ее обусловленности состоянием «доколхозной» деревни. За последнее время появился ряд содержательных работ, преимущественно на региональном материале, о повседневной жизни и социальной психологии крестьянства 1920-х гг., из которых выделяются монографии О. А. Суховой [2006] и Л. В. Лебедевой [2009]. При этом следует отметить, что ранее данные проблемы получили фундаментальную разработку на сибирском материале (см.: [Кузнецов, 2001]), что было бы целесообразно учесть в новых региональных исследованиях.
В настоящее время концепция «коллективизации» как аспекта «догоняющей модернизации» получила конкретное обоснование в монографии В. А. Бондарева [2005]. Представляется заслуживающим внимания примененное данным автором определение, выражающее историческую специфику данного процесса – «фрагментарная модернизация». Вместе с тем ряд концептуальных положений названного труда вызывают вопросы. Второй раздел труда носит название «Коллективизация как перманентный социальный конфликт в советском обществе конца 20-х – начала 50-х гг. XX в.». В какой-то мере смысл такого подхода расшифровывается в третьей главе названнго раздела: «Коллизионность социально-экономических отношений коллективизированной деревни в 1941–1953 гг.». Однако отождествлять такого рода «коллизионность» с «перманентным социальным конфликтом», видимо, все же неправомерно.
Отмеченный ранее методологический плюрализм современной историографии можно было бы только приветствовать, однако значение этого позитива снижается тем, что порой противоположные трактовки определяются не столько логикой научного исследования, сколько идеологической ангажированностью. Иной раз те или иные трактовки «коллективизации» приобретают характер историографических штампов, не основываются на новом фактическом материале.
Показательным примером такого подхода представляется интервью известного специалиста в области исторической демографии профессора В. А. Исупова, которое было опубликовано в газете «Наука в Сибири» от 5 ноября 2008 г. под характерным названием « Машины “съели” людей…». Весь этот обширный текст (на целую газетную полосу), в сущности, сводится к еще одному «разоблачению сталинизма». Маститый историк утверждает: «Сталин был совершенно бессердечным политиком, его не интересовали страдания людей, их гибель <…> Сталин думал прежде всего о престиже страны, хотел показать ее силу, а о собственном народе он заботился меньше всего. Люди должны были жертвовать собой ради построения нового общества. Сталина даже жестоким назвать нельзя – он был как бульдозер, который давил все на своем пути. Бульдозер ведь не злой, это просто бездушная машина. Вот Сталин и был таким бульдозером. <…> Сталин был сторонником мощного государства, и этой цели он достиг – государство стало богатым, сильным. С ним считались. Но при этом народ прозябал в нищете».
Конечно нельзя не согласиться с приведенными декларациями о жестокости Сталина, однако, вероятно, не является большим открытием, что и другие государственные лидеры того времени не были «великими гуманистами». Столь же очевидным является и то, что форсированная модерни- зация, сопровождавшаяся неимоверными жертвами, все же привела к цивилизационному скачку и подготовила победу в Великой Отечественной войне. Вне этого исторического контекста сентенции о «бессердечии» Сталина представляются несколько поверхностными.
Другим примером однозначной негативистской трактовки «великого перелома» может быть объемистый труд В. А. Ситникова и И. А. Чуканова [2008]. О его концептуальных ориентирах недвусмысленно свидетельствует само название главы пятой, посвященной интересующему нас периоду (С. 494–572): «Сталинский перелом 1928–1929 гг. как неизбежный социальноэкономический результат краха НЭПа. Углубление и расширение разбойничьей направленности коммунистической экономики». Не менее выразительно озаглавлен раздел пятый названной главы: «Аграрная террориада. Экономические аспекты сталинской коллективизации». При этом названные разделы рассматриваемой книги не содержат нового фактического материала, носят характер очередных «разоблачений сталинизма».
Справедливости ради следует отметить, что однозначность и недостаточная доказательность трактовок порой обнаруживается и в работах, являющихся «классикой» историографии. Недавно впервые в нашей стране была издана книга известного эмигрантского автора С. С. Маслова (представителя «неонароднического» направления) «Колхозная Россия: история и жизнь колхозов», написанная в конце 1930-х гг.
Сергей Семенович Маслов не жалел ярких красок для уничтожающей критики «коллективизации»: «Мы знаем: коллективизация смела с лица земли лучшие крестьянские хозяйства и уничтожила в “кулаках” и “подкулачниках” хозяйственную, культурную и биологическую элиту российских деревень; как поздний весенний мороз, она убила все вообще крестьянские хозяйства в пору их цветения; она ухудшила обработку земель, уход за растениями и животными, разгромила скотоводство, убила стимулы хозяйственной деятельности в душе крестьянства и вообще тяжелой свинцовой плитой придавила производительные силы сельского хозяйства; она дала власти удобный для нее налоговый насос, которым та беспощадно и безоглядно пользовалась и пользуется для выкачивания продовольствия из деревень, обрекая их на постоянное недоедание и временами на смертоносный голод. <…> Голодное, в рваных одеждах, без хозяйственного творчества и радостей, физически истощаясь и биологически слабея, живет российское крестьянство, превращенное в колхозах их хозяев в батраков и вверженное во “Второе Крепостное Право”».
Из нарисованной мрачной картины делались однозначные политические прогнозы: «Это экономическое и социальное положение деревни зловеще отблескивает в политической жизни. В ней между властью и крестьянством царят отношения, повторяющие 1919–1921 гг. <…>. Оба выжидают: власть – действия времени и своих “достижений”, которые примирят крестьянство с колхозами, крестьянство – внешней войны, во время которой оно надеется сломить и власть, и колхозный строй. Об этом ожидании деревнями желанной войны свидетельствуют сотни русских и нерусских наблюдателей сельской жизни <…>. Если серьезная и длительная война для России вспыхнет, и в нее войдут сельские резервы, во внутреннюю жизнь страны опять вернутся военные восстания…» [Маслов, 2007. С. 280–282].
Последующие события Великой Отечественной войны, как известно, показали несостоятельность такого рода прогнозов. В данном случае не место специально рассматривать вопрос о мотивах поддержки крестьянством существовавшего общественного строя, несмотря на недовольство многими его аспектами. Обратим внимание на другую сторону дела. Справедливо отмечая пороки колхозной системы, названный автор, как и его нынешние единомышленники, не принимает во внимание крайнюю противоречивость происходивших процессов социальной трансформации, причудливое сочетание в них антикрестьянского террора и моментов модернизации. Не учитывается и наличие в крестьянской среде различных социально-психологических ориентиров. Очевидно, что в довоенной деревне были социально-демографические группы, в той или иной мере выигравшие от «коллективизации» (в какой-то степени молодежь, женщины).
Особенно досадно, когда недостаточно продуманные суждения о последствиях «коллективизации» встречаются в работах серьезных исследователей, примером чего является статья Б. Н. Миронова [2000]. В ней методика, примененная в фундаментальном труде по социальной истории имперской России, использована для изучения уровня жизни населения в советский период. Как известно, названный автор считает наиболее объективным показателем уровня жизни так называемый «биостатус» (рост и вес индивида).
В статье историографическая ситуация характеризуется следующим образом: «Официальная советская статистика 1930-х гг. сильно завышает уровень жизни; западные специалисты его существенно занижают. <…> Большинство западных исследователей полагают, что дореволюционный уровень жизни был достигнут в 1960-е. В конце 1980-х – начале 1990-х гг. на Западе появились работы, в которых эта точка зрения подверглась ревизии. В одной из последних книг на эту тему, получивших широкий резонанс 1, доказывается, что в 1928–1940 гг. происходило систематическое повышение уровня жизни горожан. И даже в деревне потребление в 1938–1939 гг. превысило уровень 1928 г.» [Миронов, 2008. С. 15].
Что касается позиции Б. Н. Миронова, то он обосновывает следующую версию: «Если у горожан падение биостатуса прекратилось в конце 1920-х гг., то у крестьян – только десятилетием позже». <…> Фактором, сдержавшим падение биостатуса крестьян в 1921–1935 гг. и способствовавшим его повышению в 1936–1940-х гг. послужило снижение естественного прироста в деревне. В 1917 г. средний размер крестьянской семьи в Европейской России равнялся 6,1, в 1939 г. – 4,31. <…> Организация детских учреждений и развертывание сети общественного питания и культурно-бытовых учреждений на селе облегчали положение крестьянок и способствовали вовлечению их в общественное производство, вследствие чего средние доходы семьи обгоняли доходы отдельного колхозника» [Там же. С. 17–18].
Далее в рассматриваемой публикации утверждается: «Способствовало повышению биостатуса на селе и уменьшение трудовых нагрузок. До революции батраки работали в страду по 17–18, крестьяне – по 15–16 часов в сутки. <…> За 1937 г. рабочий день в колхозах и совхозах мужчин в возрасте
16–59 лет продолжался 8 часов 7 минут, у женщин – 5,51. Правда, крестьяне значительное время тратили на работу в личном хозяйстве – соответственно 1,51 и 5,43 часа. Сокращение рабочего дня было достигнуто благодаря техническому перевороту в сельском хозяйстве. Сельский труд в 1940-м стал по преимуществу механизированным: на 78 % обеспечивался энергией от механических двигателей» [Там же. С. 18].
При этом сведения о продолжительности рабочего дня без всяких комментариев приводятся по изданию 1939 г. [Колхозы…, 1939. С. 56], достоверность которого по меньшей мере проблематична. Странным выглядит и утверждение о превращении сельского труда в «преимущественно механизированный», принимая во внимание, что в рассматриваемый период заметное внедрение современной техники имело место только в зерновом производстве (излишне напоминать, как обстояло дело в производстве технических культур, картофеля, овощей и в животноводстве).
Далее следует еще более смелое утверждение: «Наконец, утверждение колхозного строя привело к значительному выравниванию материального положения крестьян. Исчезли батраки, были ликвидированы “кулаки”, крестьяне сделались равны в экономическом и социальном отношении. Нивелирование при всех его издержках всегда является важным фактором повышения биостатуса большинства» [Миронов, 2008. С. 18]. Удивляет, что столь ответственное положение о «равенстве» подтверждается лишь ссылкой на второй том «Истории советского крестьянства» [История советского крестьянства…, 1987. С. 273–274, 366], что вряд ли является достаточным аргументом.
Несколько странные представления уважаемого автора о реалиях 1930-х гг. наиболее наглядное выражение нашли в разделе рассматриваемой статьи под характерным названием «Равенство без свободы». Здесь утверждается: «Большее значение для поддержания биостатуса населения имело отсутствие в советском обществе 1930-х заметной имущественной дифференциации. Материальное положение народа и элиты или номенклатуры различалось несущественно. Посчитать децильный коэффициент – соотношение доходов 10 % самых богатых и бедных страт населения – возможности нет. Однако очевидно, что уровень неравенства в 1930-е был на порядок ниже, чем в России конца XX – начала XXI в., когда децильный коэффициент достигал 14–15. Даже обитатели Кремля жили в это десятилетие просто, по-солдатски, намного скромнее, чем в 1920-е годы, когда тон задавали большевики-аристократы – Троцкий, Зиновьев и Каменев. Все, кроме Сталина, получали паек, обеспечивались скромной одеждой и обувью советского производства по талонам, мебель и домашнюю утварь получали со склада, занимали отдельные небольшие квартиры, пользовались государственными дачами и машинами, светскую жизнь не вели, за границу ездили очень редко. Все привилегии не обеспечивали уровня жизни даже среднего класса в развитых странах, при этом общее число лиц, пользовавшихся спецснабжением, в начале 1930-х составляло лишь 55,5 тыс. (из них 45 тыс. проживали в Москве). Самой большой привилегией номенклатуры была сытость. Но за это приходилось много работать. Только в 1970-е советская элита, численность которой увеличилась до 227 тыс., стала жить на уровне среднего класса США того времени» [Миронов, 2008. С. 17]. Странный метод аргументации дает знать о себе и в данном случае: последнее утверждение подтверждается ссылкой на работу известного английского автора [Matthews, 1978. P. 176–183]. Однако это утверждение названного автора представляется по меньшей мере спорным.
Нетрудно доказать, что приведенные утверждения никак не соответствуют советской повседневности 1930-х гг., которая характеризовалась резкими, можно сказать, кричащими формами социальной дифференциации. На таком фоне рассуждения о «равенстве» крестьян представляются особенно сомнительными.
Как видим, история «коллективизации», несмотря на появление немалого количества документальных публикаций и аналитических трудов, по-прежнему содержит много «белых пятен» и «узких мест». Представляется весьма значимой дальнейшая углубленная разработка этой тематики не только на общероссийском, но и региональном материале. По-прежнему остается актуальным создание обобщающего фундаментального труда на эту тему.