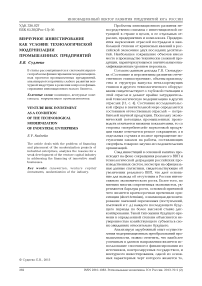Венчурное инвестирование как условие технологической модернизации промышленных предприятий
Автор: Cуднеко Е.В.
Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu
Рубрика: Инновационный вектор развития предприятий Юга России
Статья в выпуске: 2 (2), 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются и систематизируются проблемы финансирования модернизационных проектов промышленных предприятий, анализируются причины слабого развития венчурной индустрии в решении вопросов финансирования инновационного малого бизнеса.
Инновации, венчурные инвестиции, модернизация промышленности
Короткий адрес: https://sciup.org/149130954
IDR: 149130954 | УДК: 336.027
Текст научной статьи Венчурное инвестирование как условие технологической модернизации промышленных предприятий
Проблемы инновационного развития непосредственно связаны с инвестиционной ситуацией в стране в целом, в ее отдельных отраслях, предприятиях и комплексах. Предприятия наукоемких отраслей пострадали в наибольшей степени от кризисных явлений в российской экономике двух последних десятилетий. Наибольшее сокращение объемов имело место в производстве технически сложной продукции, характеризующемся значительным квалификационным уровнем персонала.
Согласно данным доклада Г.В. Самодуро-ва «Состояние и перспективы развития отечественного станкостроения», объемы производства и структура выпуска металлорежущих станков и другого технологического оборудования свидетельствуют о глубокой стагнации в этой отрасли и делают крайне затруднительной технологическую модернизацию в других отраслях [11, с. 4]. Состояние исследовательской сферы в значительной мере определяется состоянием отечественных отраслей — потребителей научной продукции. Поскольку экономический потенциал промышленных производств отличается низкими показателями, то со стороны «потребителей» наукоемкой продукции также отмечается резкое сокращение, а в отдельных случаях и полное прекращение поступления заказов на работы, составляющих «портфель товаров» научно-исследовательских организаций.
Спад инвестиций в основной капитал происходит на фоне сокращения реального ВВП и технологической деградации российских производственных систем, несмотря на официальные данные статистики, свидетельствующие об увеличении реального ВВП, что дает основание для вывода об отсутствии в России интенсивного экономического роста. Более того, по мнению многих современных экономистов, укрепляются барьеры роста, основной причиной чего является краткосрочная временная ориентация (short-termism), означающая дисконтирование значений переменных (поступлений, платежей и т. д.) каждого последующего будущего периода по более высокой ставке дисконтирования. Такой тип оценки будущего времени в определенной степени объясняется неуверенностью хозяйствующего субъекта в своих ожиданиях относительно будущего.
Анализируя зарубежный опыт осуществления модернизационных преобразований промышленности, можно отметить, что наиболее успешным в данном направлении является использование «посевного» финансирования из источников, контролируемых государством, и венчурного инвестирования, одной из основных характерных черт которого является то, что оно не имеет отношения к прямым заимствованиям или выпуску долговых обязательств, а является формой долевого финансирования, означающего продажу фирмой или предпринимателем определенной части собственного бизнеса другим компаниям или лицам [1]. Как известно, венчурный капитал в переводе с английского означает «высокорисковый, смелый капитал; капитал, вкладываемый в новое предпринимательское дело (бизнес), связанное с повышенным риском; инвестирование в смелое предприятие». В США бум венчурного частного инвестирования начался еще в 80-е гг. прошлого века. В странах ЕЭС в 2005 г. в венчурном финансировании было использовано более 60 миллиардов евро.
Однако говорить о развитии реального российского венчурного бизнеса (российского по работающему в нем капиталу) преждевременно. Если в большинстве развитых стран почти половина венчурного капитала имеет национальное происхождение, то в российской венчурной индустрии доля национального капитала незначительна [2]. В России лишь начались процессы эволюционного развития инфраструктуры венчурной индустрии. «Большой» российский капитал пока не увидел преимуществ венчурного инвестирования и не начал активно вкладывать средства в этот бизнес. Но, с другой стороны, уже возникла необходимость в координации действий, формализации «правил игры» и отстаивании интересов его участников. В то время как российский крупный бизнес в настоящее время воздерживается от значительных венчурных инвестиций, иностранные инвесторы выбирают наиболее эффективные направления вложения венчурного капитала: телекоммуникационные фирмы, предприятия табачной промышленности, заводы пивоварения и пищевой промышленности, что, безусловно, не соответствует интересам российского общества.
В России венчурный капитал только зарождается, однако потенциально он является одним из основных источников финансирования для коммерциализации научно-технических разработок и реструктуризации крупных производственно-хозяйственных комплексов. По мнению участников инновационного бизнеса и ряда исследователей, уже есть сигналы, что российский торговый, банковский, страховой капитал, капитал пенсионных фондов будет становиться определенным источником инвестиций в инновационные проекты малых фирм [3]. При этом ниша венчурного финансирования на рынке капиталов при слабости финансового рынка и недостаточной развитости банковского кредитования может только уве личиваться за счет вхождения в нее всех инновационных проектов, тогда как, например, в США эта ниша сужается (при повышении активности венчурного капитала) в результате конкуренции с банковским кредитованием под обеспечение — в ней остается в основном то, что банки без обеспечения не кредитуют.
Учитывая вмененный риск венчурного финансирования, необходимо понимать, что его рационально использовать только в случае, если ожидаемая доходность данного бизнеса достаточно высока (более 30 %). Обычно устанавливают следующие средние значения ожидаемой доходности в зависимости от направления инвестирования: венчурные программы — 30 %; новая продукция — 20 %; расширение осуществляемого бизнеса — 15 %; традиционная технология — 10 %. Венчурные капиталисты должны компенсировать принимаемый ими высокий риск ожидаемой доходностью, которая может значительно превысить средний уровень. Иногда они используют такие характеристики, как «тройная доходность через три года» или «пятикратная доходность по прошествии пяти лет». Причем, чем большего успеха фирма уже достигла в своем развитии, тем ниже уровень доходности, на которую венчурные капиталисты будут претендовать в начале ее финансирования.
По мнению Д.В. Трофимова [12], в России важность развития венчурного капитала связана, прежде всего, с двумя ожиданиями, характерными в прошлом для Европы: во-первых, происходит сдвиг ресурсов НИОКР из государственного в частный сектор, и активнее привлекаются внебюджетные средства в науку и инновации; во-вторых, растет роль посреднических функций, в процессе финансирования активнее привлекаются профессионалы — специалисты по коммерциализации технологий (прежде всего, по отбору фирм для инвестирования). Очевидно, первая тенденция характерна для стран, в которых сохранилось значительное государственное влияние на сферы экономики, при этом реакция на изменения внешней среды является недостаточно оперативной, а принимаемые соответствующие управленческие решения отличаются низкой эффективностью. Вторая тенденция характерна для стран с высокой активностью частного бизнеса, который более гибко и адекватно реагирует на изменяющиеся макроэкономические и прочие факторы. Однако в последние десятилетия, характеризующиеся глобализацией экономики, экономические реалии изменились радикально, и государственная политика должна быть адекватной новым условиям: росту скорости обмена информацией, интенсификации процессов внедрения новых технологий и кон- структивных новшеств, усилению конкуренции на товарных и иных рынках.
В связи с этим конструктивным представляется подход В.Е. Дементьева [5], который обращает внимание на так называемые «институты развития», призванные служить катализаторами инновационного экономического роста. Все активней пропагандируемая идея использования этих институтов фактически претендует на роль мэйнстрима в современной теории такого роста. При этом предлагается отказаться от каких-либо отраслевых предпочтений в нововведениях, поддерживать любые инновации, позволяющие производить дешевле, создавать новые производства, причем не только на основе собственных разработок, но и за счет импорта и копирования технологий. Заметим, что подобный опыт имеется на Западе (достаточно упомянуть европейские центры трансферта EEN, аналогичные центры трансферта в США и Японии, развивающиеся с 90-х гг. прошлого века).
Однако, как показывает опыт лидеров, обеспечение экономического роста всегда опирается на выделение ведущих, приоритетных отраслей. Концентрация инновационных ресурсов на приоритетных направлениях позволяет либо преодолеть входные барьеры на существующие высокотехнологичные рынки и получить эффект масштаба, либо реализовать стратегию дифференциации, сформировать собственное направление технологического прорыва. Это не значит, что все остальные отрасли «сворачиваются», хотя в каких-то из них наблюдается и такое. Скорее можно говорить о том, что ведущие отрасли все в большей мере начинают диктовать условия активности в остальных отраслях. Последние, «подтягиваясь к лидерам», сохраняют и совершенствуют свои производственные системы. Наиболее явно такой эффект проявляется в результате вхождения данных предприятий в промышленные и инновационные кластеры [8].
Кроме того, венчурное финансирование обеспечивает малый бизнес не только инвестициями, но и эффективным управлением. Произведя эффективный отбор проектов, венчурные фонды концентрируют ресурсы на наиболее перспективных направлениях [3].
До середины 90-х гг. функции инновационного финансиста по инерции продолжало выполнять государство — по линии Академии наук, Министерства науки и технологий и т. д. Затем, когда бюджетное финансирование резко сократилось, наступил второй этап, так называемая эпоха «романтического венчура». В этот период решения о финансировании принимались предпринимателями не на основе коммерческого рас чета, а исходя из «особого альтруизма». Ресурсов, как правило, было немного, их едва хватало, чтобы довести процесс до стадии экспериментального образца. Венчурные предприниматели в этот период поддерживали инновационный бизнес, главным образом, дорабатывая советские технологии.
В настоящее время, по мнению ряда авторов, протекает третий этап, особенность которого заключается в том, что средства «романтиков» уже закончились, а крупный капитал по-прежнему игнорирует в основной массе малый технологический бизнес. Образовавшуюся брешь пытается заполнить высшая лига среднего бизнеса — компании, которые не успели или не захотели бороться за право обслуживать финансовые потоки ТЭКа. Как правило, эти компании связаны с высокотехнологичными сегментами экономики и просто вынуждены заниматься венчурным финансированием, чтобы развивать свой основной бизнес. Эти средние компании и будут формировать инфраструктуру завтрашнего российского венчурного рынка.
Прогнозируемый четвертый этап (создание его задатков во многом зависит от развития национальной экономики в целом и перехода к упомянутым выше модернизационным процессам) будет заключаться в начале активного участия крупного капитала (включая банковский) в венчурном инвестировании [7]. При этом важно, что первые стадии многих венчурных проектов были пройдены за счет государства и бизнесменов-романтиков и определенный отбор технологий-проектов уже был произведен. Поэтому подключающийся к процессу средний и крупный бизнес будет иметь дело не с макетами и не с эскизами, а с опытными образцами. Произошел естественный отбор, в отличие от искусственных deal flow и due diligence. Отсюда выводится гипотеза, что норматив эффективности сегодняшнего русского венчура не два к восьми, как на Западе, а два к трем. Можно предположить, что ресурсов на производство самих технологий российскому бизнесу должно хватить, а дальше должна последовать фаза капитализации технологий на западном фондовом рынке, совпадающая с нарастанием новой технологической волны, уже не связанной с виртуальной экономикой, а с более «приземленными» проектами: экономика здоровья, новая энергетика, система «человек — компьютер» и другие.
На наш взгляд, этот прогноз представляется достаточно реалистичным, однако требуется уточнение понятия «новая технологическая волна». При этом данное уточнение является не чисто теоретическим вопросом, а име- ет практическое значение для создания организационно-экономического инструментария управления инновационным бизнесом [8].
Первым по важности внешним инвестором в Российский инновационный бизнес в прошедшее десятилетие был ЕБРР. Это предопределяется не только тем, что ему принадлежит почти 100 %-я доля в действовавших тогда региональных венчурных фондах (RVF) и фондах прямого инвестирования малых предприятий (SEEF), но и тем, что он совместно с отечественными инвестиционными структурами участвует в других фондах прямого инвестирования. ЕБРР играет определяющую роль в развитии российской инновационной индустрии, способствуя появлению частных инвесторов и формированию профессиональных венчурных структур. Вторым по важности инвестором венчурных фондов являются зарубежные государственные структуры, имеющие определенные соглашения с Правительством Российской Федерации, главным образом по поводу конверсии оборонной промышленности (например, фонд «Defence Enterprise Fund»), а также по другим отраслям [например, фонды TUSRIF («The United States — Russia Investment Fund») и «Agribusiness Partners International»].
Однако на современном этапе развития малого и среднего бизнеса России развитие системы венчурного финансирования сталкивается с рядом проблем, основная из которых заключается в неразвитости институциональных отношений между ее участниками: биз-нес-группами, инвесторами, фондами. Инвестиционные компании практически не занимаются поиском перспективных молодых фирм, нуждающихся в инновационном капитале. Кроме того, малым предприятиям практически не представляется возможным получить требуемые для реализации инновационных и модернизационных проектов значительные объемы денежных средств (250 000 — 2 500 000 долл. США) из-за непропорционально большой сопутствующей стоимости привлечения этого капитала, а также из-за того, что информация по денежным средствам такого порядка обычно ограничена.
Наряду с этим необходимо отметить, что существует проблема готовности промышленности к получению и использованию новых разработок. Здесь необходимо упомянуть о результатах анкетирования менеджеров и специалистов ряда предприятий Южного федерального округа, проведенного при участии автора (всего в анкетировании участвовало 428 менеджеров и специалистов, представляющих 25 предприятий из четырех субъектов Федерации). Респондентам задавались вопросы о го товности их предприятий к использованию результатов исследований и разработок, выполненных в академических и вузовских коллективах. Результаты проведенного анкетирования показали весьма низкий уровень управления инновациями на предприятиях (лишь 18,6 % респондентов используют инструментарий управления инновациями в своей деятельности).
Анкетирование показывает, что у большинства респондентов присутствует понимание важности и необходимости внедрения инноваций, однако они сталкиваются с проблемами адаптации разработок к конкретным условиям их предприятия и недостатком средств для финансирования этих нововведений (многие из респондентов отмечают, что внедрение разработок может быть успешным лишь при наличии внешней финансовой поддержки).
Нельзя сказать, что фонды для финансирования нововведений отсутствуют, просто, к сожалению, многие менеджеры (особенно занятые в малом бизнесе) считают проблему увеличения собственного капитала чрезвычайно трудной и в результате этого далеко не полностью реализуют имеющиеся у них возможности. Согласно результатам зарубежных исследований, только 2 — 5 % анализируемых инвесторами бизнес-планов принимаются к финансированию. Этот процесс требует строго избирательной направленности инвестиционной деятельности и может проводиться по отношению к тем рыночным нишам, которые включают определенные стадии развития бизнеса, технологические разработки или организационные условия деятельности. Немаловажное значение для инновационного бизнеса имеет также оценка вероятности потерь или успехов и продолжительность периода развития этого бизнеса.
Таким образом, основными проблемами развития системы венчурного инвестирования проектов модернизации отечественной промышленности являются:
-
— неразвитость институциональных механизмов системы венчурного финансирования;
-
— неразвитость инфраструктуры венчурной индустрии;
-
— незначительность доли присутствия отечественного капитала в венчурной индустрии;
-
— игнорирование зарубежными венчурными инвесторами интересов развития российской экономики;
-
— недостаточная готовность отечественной промышленности к получению и использованию инновационных разработок;
-
— игнорирование крупного капитала потенциала малого технологического бизнеса.
Каждая из вышеперечисленных проблем в той или иной мере связана с организацион- но-экономическим инструментарием для управления инновационным бизнесом: степень его развития (как правило, недостаточная в российских условиях)обусловливает трудности в деле активизации исследований и разработок.
Список литературы Венчурное инвестирование как условие технологической модернизации промышленных предприятий
- Васильева Т. Н. Венчурное предпринимательство: учеб. пособие / Т. Н. Васильева. - М.: РГИИС, 2004. - 112 с.
- Галицкий, А. Российский венчурный бизнес/А. Галицкий//Рынок ценных бумаг. -2009. -№ 22. -С. 44-48.
- Геналиева, А. А. Венчурный бизнес как форма взаимодействия малого и крупного бизнеса/А. А. Геналиева//Науч. тр. междунар. науч.-практ. конф. ученых МАДИ (ГТУ), МСХА, ЛНАУ; 5-6 янв. 2004 г. -М.; Луганск; Смоленск, 2004. -117 с.
- Голикова, В. Российская промышленность на перепутье. Что мешает нашим фирмам стать конкурентоспособными/В. Голикова, К. Гончар, Б. Кузнецов, А. Яковлев. -М.: ГУ ВШЭ, 2007. -С. 23-29.
- Дементьев, В. Е. Догоняющая постиндустриализация» и промышленная политика: препринт WP/2006/199/В. Е. Дементьев. -М.: ЦЭМИ РАН, 2006. -122 с.
- Иванова, Ю. Н. Инвестиционная политика промышленного развития/Ю. Н. Иванова, Л. В. Бровцов. -СПб.: Изд-во С.-Петерб. гос. ун-та экономики и финансов, 2010. -134 с.
- Иванцов, А. Г. Инвестиции в России/А. Г. Иванцов//Рынок ценных бумаг. -2010. -№ 11. -С. 12-14.
- Колбачев, Е. Б. Технологические уклады и инструментарий управления инновациями/Е. Б. Колбачев//Научно-технические ведомости С.-Петерб. политехн. ун-та. -2010. -№ 4. -С. 66-70.
- Мельников, О. Н. Управление интеллектуально-креативными ресурсами наукоемких производств/О. Н. Мельников//Креативная экономика. -2010. -№ 5. -С. 48-54.
- Осокина, И. Проблемы финансирования инновационных проектов в научно-технической сфере/И. Осокина//Общество и экономика. -2009. -№ 9. -С. 44-47.
- Самодуров, Г. В. Доклад на конференции «Метмаш-Станкоинструмент»/Г. В. Самодуров//Состояние и перспективы развития отечественного станкостроения. -Ростов н/Д: Станкоинструмент, 2010. -123 с.
- Современные тенденции инновационного развития региональных экономических систем: коллективная монография. -Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2010. -275 с.
- Трофимов, Д. В. Венчурное финансирование инновационных проектов: дис.... канд. экон. наук/Д. В. Трофимов. -М., 2002. -203 с.
- Чернова, О. А. Методологические аспекты оценки деятельности объектов инновационной инфраструктуры внедренческого бизнеса/О. А. Чернова//Экономический анализ: теория и практика. -2013. -№ 22. -С. 10-17.