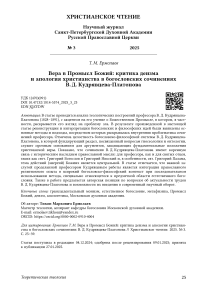Вера в Промысл Божий: критика деизма и апология христианства в богословских сочинениях В. Д. Кудрявцева-Платонова
Автор: Ермолаев Т.М.
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Теоретическая теология
Статья в выпуске: 3 (114), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье проводится анализ теологических построений профессора В. Д. КудрявцеваПлатонова (1828–1891), с акцентом на его учение о Божественном Промысле, в котором, в частности, раскрывается его взгляд на проблему зла. В результате произведенной в настоящей статье реконструкции и интерпретации богословских и философских идей были выявлены основные методы и подходы, посредством которых раскрывалась внутренняя проблематика сочинений профессора. Отмечена целостность богословскофилософской системы В. Д. КудрявцеваПлатонова, в которой фундирующий раздел, посвященный вопросам гносеологии и онтологии, служит прочным основанием для аргументов, защищающих фундаментальные положения христианской веры. Показано, что сочинения В. Д. КудрявцеваПлатонова имеют коренную связь с историческим наследием православной мысли: для профессора, как и для святых отцов, таких как свтт. Григорий Богослов и Григорий Нисский и, в особенности, свт. Григорий Палама, тема действий (энергий) Божиих является центральной. В статье отмечается, что важной заслугой проделанной профессором Кудрявцевым работы является интеграция православного религиозного опыта в широкий богословскофилософский контекст при последовательном использовании метода, специально относящегося к предметной области естественного богословия. Также в работе предлагается авторская позиция по вопросам об актуальности трудов В. Д. КудрявцеваПлатонова и возможности их введения в современный научный оборот.
Трансцедентальный монизм, естественное богословие, метафизика, Промысл Божий, деизм, апологетика, Московская духовная академия
Короткий адрес: https://sciup.org/140312289
IDR: 140312289 | УДК: 1(470)(091) | DOI: 10.47132/1814-5574_2025_3_25
Текст научной статьи Вера в Промысл Божий: критика деизма и апология христианства в богословских сочинениях В. Д. Кудрявцева-Платонова
27.01.2025.
Краткая характеристика богословско-философского наследия В. Д. Кудрявцева-Платонова в контексте темы Божественного Провидения
Виктор Дмитриевич Кудрявцев-Платонов (1828-1891) — один из ярчайших представителей и корифей богословской школы Московской духовной академии. В преподаваемом в МДА курсе метафизики ключевое место занимал раздел естественного богословия, который учитель Виктора Дмитриевича прот. Федор Голубинский1 именовал богословием умозрительным. В качестве исходной теоретической основы оба они использовали вольфианскую философию, в частности учебник по метафизике Хр. Баумейстера. Примечательны слова современной исследовательницы В. В. Гилевой, которая отмечает характер рецепции ими философских сочинений: «Заимствование с самого начала не было огульным, оно несло в себе дух критицизма» [Гилева, 2009, 16]. Также В. В. Гилева уточняет, что критическое восприятие вольфианских сочинений способствовало зарождению «собственной философской традиции». Дореволюционный исследователь Н. Семейкин отмечает: «В противоположность разрушительной по своим антирелигиозным тенденциям французской философии того времени, система Лейбнице-вольфианская была наиболее благоприятной для философского обоснования религиозных истин, почему с этого времени она окончательно вытеснила из академического преподавания схоластические рукописные трактаты, основанные на началах Аристотеля» [Семейкин, 1915, 251].
Сочинения Виктора Дмитриевича, которые отражают удивительную глубину философской системы, называемой трансцедентальным монизмом, интересны по сей день, поскольку в них последовательно раскрываются вечные вопросы духа и бытия, что актуально для апологетики христианства. Его работы не только исследуют природу реальности и место человека в ней, но и предлагают уникальную интерпретацию христианского Откровения через призму философского анализа. Как уже было отмечено, на целостную синкретическую систему Виктора Дмитриевича повлиял прот. Федор Голубинский, который истину христианской веры выразил в рамках единой философской системы и, как отметил Н. Н. Глубоковский, стал «не просто христианским философом, но именно и специально философом христианства» [Глу-боковский, 2002, 42]. Данный яркий отзыв Н. Н. Глубоковского с той же торжественностью и выразительностью можно экстраполировать и на Кудрявцева-Платонова.
Итак, система трансцедентального монизма Виктора Дмитриевича представляет собой интересный подход к гносеологии, который стремится преодолеть фундаментальные противоположности между материализмом и идеализмом. В отличие от кантианства, которое утверждает, что наше познание ограничено явлениями и формами восприятия, Кудрявцев предлагает интегративный взгляд, в котором как материальный, так и духовный аспекты бытия имеют значение и могут быть познаны. Важно отметить, что с точки зрения гносеологии профессор был реалистом, а с точки зрения онтологии его система представляла из себя умеренный дуализм (см.: [Лушников, 2024, 95]). Кудрявцев усматривает в крайностях материализма и идеализма недостаток, заключающийся в их односторонности. Материализм, сосредоточенный исключительно на физической основе бытия, игнорирует духовные аспекты, в то время как идеализм, ставящий дух на первое место, пренебрегает материальным миром. Трансцедентальный монизм утверждает, что истинная реальность — это единство материального и духовного, которое может быть понято посредством признания Бога в качестве первоосновы (см.: [Глаголев, 1915, 100]).
В богословско-философском наследии В. Д. Кудрявцева-Платонова необходимо выделить глубокую христианскую веру как основополагающий элемент. Как отмечает С. С. Глаголев, «Его религиозною верою всецело определялась его философия. Центральною идеею его философии является идея Бога. Все он приводит к Богу, объяснение всего находит в Боге, вера в Бога служит у него основанием для веры в познавательные и нравственные силы человека» [Глаголев, 1915, 97]. Иными словами, христианская концепция служит не только метафизическим фоном, но и основным принципом, через который Кудрявцев интерпретирует различные аспекты человеческого существования. Центральной идеей его философии является вера в Бога, Который является не только трансцендентным, но и имманентным по отношению к миру. Корифей московской школы философского теизма приходит к тому, что все аспекты реальности, включая познание и нравственность, необходимо объяснять через призму Божественного начала. Профессор стремится воцерковить существовавшую в его эпоху философию, которая отошла от религиозных принципов. Таким образом, вера в Бога становится не просто религиозным убеждением, но и основой для формирования познавательных и этических категорий.
Виктор Дмитриевич располагает разделы метафизики в том же порядке, что и его учитель проф. прот.Ф. Голубинский2: (1) учение о сущем вообще, т.е. онтология; (2) учение о безусловно сущем, т. е. естественная теология; (3) и (4) учение об условно сущем, т. е. космология и психология [Кудрявцев, 1890, 37]. Последовательность разделов естественной теологии у профессоров также совпадает. У проф. Кудрявцева она представлена следующим образом: (1) о бытии Божием, (2) понятие о Боге и Его свойствах, (3) отношение Бога к миру.
Искомая нами тема обоснования рациональности веры в Промысл Божий находится в завершающем разделе естественной теологии, посвященном исследованию отношения Бога к миру посредством философствующего разума. Задача, поставленная Кудрявцевым-Платоновым, сохраняет свою актуальность для апологетики и в современном контексте, учитывая неослабевающие тенденции подрыва религиозных убеждений в сознании общества. Хочется сказать, что обоснование рациональности веры в Божественное Провидение имеет важное значение не только для апологетического дискурса, но и для самой естественной теологии, которая не ограничивается полемической составляющей, но и стремится к разработке учения о Боге с использованием специального для дисциплины метода.
Главный тезис завершающей части естественной теологии заключается в утверждении, что Бог «все хранит и направляет к благу, печется о благе не только целого мира, но и каждого существа, как бы оно незначительно ни было» [Кудрявцев-Платонов, 1871, 147]. Для профессора задача данной апологетической деятельности представляется вполне решаемой и сводится к утверждению разумности и неантинаучности веры в Божественное Провидение. Он подчеркивает, что «Убеждение в бытии Промысла… есть естественный и необходимый вывод из правильных понятий о Боге и мире» [Кудрявцев-Платонов, 1871, 161]. Данные слова подчеркивают важность интеграции теологического и философского подходов в рамках естественной теологии, которая позволяет создать более полное и обоснованное учение о Божественном Провидении.
Одним из популярных направлений философских размышлений в эпоху Виктора Дмитриевича был деизм, который разрабатывался на страницах сочинений многих авторов, стремящихся подорвать основы религиозной веры в Бога. Как отмечал современник профессора С. С. Глаголев, «Он [Кудрявцев] дал очень много, он дал защиту теизма, построенную на критике философских учений» [Глаголев, 1915, 108]. С. С. Глаголев высоко оценивает сочинения Виктора Дмитриевича и его апологию веры в Промысл Божий. Эта апология ярко проявляется в ряде работ Виктора Дмитриевича, в частности, в «Начальных основаниях философии», в статьях «О Промысле»
и «Безусловный прогресс и истинное усовершенствование рода человеческого»?», а также в «Чтениях по философии религии»3.
В системе трансцедентального монизма проф. В. Д. Кудрявцева-Платонова достаточно ярко прослеживается логическая связь между положением о действии Бога в мире, системное обоснование которого происходит в естественном богословии, и природой человеческого духа (по этой причине мы и обратили внимание на учение о доказательствах бытия Божия и систему трансцедентального монизма профессора, прежде чем перейти к рассмотрению завершающего раздела естественной теологии). Если Бог промышляет о мире материальном посредством сохранения и управления, то тем более Он проявляет Себя и в мире духовном, к которому имеет отношение человек как существо, обладающее сознанием и представлением об истине, доброте, красоте и, в конечном итоге, о самом Боге. Это служит предметом обоснования В. Д. Кудрявцева-Платонова в завершающем разделе естественного богословия.
Хочется отметить, что на философские построения В. Д. Кудрявцева-Платонова, касающиеся обоснования рациональности веры в Промысл Божий, оказали влияние творения отцов Церкви. Это подтверждается, например, наблюдаемым сходством между естественным богословием отцов Церкви и учениями представителей школы «верующего разума» МДА (см.: [Ермолаев, 2024, 57–62]). Так, свт. Григорий Богослов акцентирует внимание на целесообразности мироустройства и формулирует идею о том, что Бог заботится о бытии всего сотворенного (см.: [Григорий Богослов, 2008, 421-425]). Свт. Григорий Нисский пишет: «Божество присутствует всюду равным образом (ката то toov), и точно так же (ыоаитыд) (то есть равномерно. — Т. Е.) проникает во всякую тварь» (S. Gregorii Nysseni Ad Harmonium. Col. 248A). В рамках данной темы нелишним будет обратиться к учению свт. Григория Паламы, который пишет: «Ибо Божественный Промысл есть не что иное, как Божие по отношению к низшим [Его] обращение и благое изволение (θελησις). И он был прежде всего, словно некое общее предвидение (προμηθεια) будущих [творений], и по причине него все произведено в свое время, как от творческого произволения и действия, и в нем все состоялось (ср.: Кол 1:17), словно в содержащей все темнице и все объемлющем собой обиталище (ως εν σθνεκτικη φρουρα και περιληπτικη εστια του παντος). По этой вот причине единый Промысл и благость, по которому Бог заботится о низших Его, не только един, но называется богословами и многими промыслами и благостями» [Григорий Палама, 2007, 19]. Также свт. Григорий Палама связывает тему Промысла Божия с целесообразностью (τὸ XuoiTeXeg) Вселенной4. Понимание Божественного Промысла как активного и целенаправленного участия Бога в жизни мира — или, точнее, участия Бога через Его действия (энергии) — создает основу для рационального осмысления Божественного Провидения в естественном богословии В. Д. Кудрявцева-Платонова. Таким образом, в решении сложной апологетической задачи обоснования Промысла Божия профессор выступает именно как представитель православной традиции, что, к слову, вполне соответствует духу и традициям русской религиозной философии в аспекте онтологических изысканий. В этой связи хотелось бы обратиться к словам Н. А. Бердяева: «У европейского мира в преобладающей его части иссякла вера в возможность перелива Божественной энергии в этот мир, в наиреальнейшее, непосредственное воздействие Божественных сил на жизнь человека и человечества. <…> Православие изначально и абсолютно онтологично. В этом онтологизме — внутренний пафос православия. <...> В западном христианстве, в его актуальности, в его бурной истории и в его великой культуре онтологизм ослабел, выветрился, произошло отделение от истоков бытия. Православие неизменно верит в возможность перелива Божественной энергии в жизнь мира и человечества» [Бердяев, 1924, 87–90]. Полагаю, данное обращение к святоотеческим творениям и словам Н. А. Бердяева может способствовать лучшему пониманию апологетических построений В. Д. Кудрявцева-Платонова на предмет Промысла Божия.
Важными концептуальными категориями, которые использует В. Д. Кудрявцев-Платонов для критики различных философских течений, отвергающих Божественный Промысл, являются термины трансцендентность и имманентность . Так, утвержденное в разделах, посвященных доказательствам бытия Божия и Его атрибутов, положение о том, что Бог является существом безусловным, неограниченным, беспредельным, необходимо приводит к выводу, что Бог «должен быть мыслим существом, вполне отдельным и отличным от мира по Своей природе» [Кудрявцев, 1915, 209]. Такое отношение Бога к миру обозначается посредством термина «трансцендентность». Однако если предположить, что Бог, будучи возвышенным над миром, не проявляет Себя в нем, это будет противоречить Божественным атрибутам неограниченности, беспредельности и всеприсутствия. Отношение Бога к миру, при котором Творец пребывает в нем, обозначается термином «имманентность».
Таким образом, становится очевидным, что обращение лишь к одному из понятий — трансцендентности или имманентности — неизбежно приведет к некоторой крайности, которая будет противоречить истинному пониманию Бога и мира. К таким крайностям можно отнести системы дуализма, деизма и пантеизма (однако в данной работе мы сосредоточимся на реакции Виктора Дмитриевича только лишь на деистические системы).
Виктор Дмитриевич основывает свои рассуждения на следующих ключевых положениях [Кудрявцев-Платонов, 1871, 150]: (1) относительность бытия мира как совокупности существ, которые, хотя и являются творениями Абсолютного Существа, не обладают характеристиками всесовершенства и неограниченности, и (2) существенное отличие Бога, как Существа Всесовершенного, от творения [Кудрявцев, 1915, 157]5. Он подчеркивает: «Вопреки тому и другому одностороннему воззрению [деизму и пантеизму], истинное понятие о Боге и мире требует, чтобы мы, признавая существенное отличие мира от Бога и относительную его самостоятельность, в то же время признавали, что Бог не только создал мир, но, как неограниченный и вездеприсущий, пребывает в нем Своими силами, а как всесовершенный и всеблагой, принимает живое и деятельное участие в жизни самого мира» [Кудрявцев, 1915, 229]. Прежде чем перейти к интересующей нас теме данного раздела, к учению о Промысле, сосредоточимся на критических возражениях профессора относительно деизма.
Деизм, теизм и вера в Промысл Божий в наследии В. Д. Кудрявцева-Платонова
Существуют разные деистические течения, «они варьируют от приписывания Богу исчерпывающе малого участия в делах мироздания до проявления максимальной заботы о нем, хотя и без сверхъестественного вмешательства» [Гайслер Норман, 2004, 298]. Отметим, что Виктор Дмитриевич акцентирует внимание на различные тезисы деистов избирательно (к сожалению, не предлагая конкретных отсылок на литературу). Несмотря на то что профессор не предлагает четкой классификации деистических систем и, очевидно, учитывает далеко не все направления, пожалуй, его критический материал можно экстраполировать на все направления данного течения.
Профессор утверждает, что сравнение мира с неким заведенным «механизмом», к которому прибегают деисты, является по своей сути непоследовательным. Виктор Дмитриевич предлагает несколько других образов, указывая, что единство мира следует мыслить скорее не как механическое целое, а как органическое (об этом еще будет сказано), и утверждает, что более подходящей метафорой для описания бытия мира может служить стройно играющий оркестр. Профессор подчеркивает, что мир не является просто механическим агрегатом, а представляет собой сложную симфонию, где каждая деталь, каждый элемент имеют свою ценность и роль, но все вместе они образуют нечто большее — величественное и гармоничное целое, управляемое высшим разумом [Кудрявцев, 1915, 218].
Ход контраргументации профессора связывается с тезисом о несоответствии учений деистов с Божественными атрибутами. Виктор Дмитриевич пишет: из деистических концепций неизбежно следует, что Бог прибегает к самоограничению , что не согласуется со свойством неограниченности, ведь, исходя из логики деистов, «Божество имеет нечто вне Его лежащее, на границах которого прекращается Его сила и власть» [Кудрявцев, 1915, 215], отсюда, Бог теряет абсолютное значение.
Крайние представления деистов о Божестве как существе трансцендентном противоречат атрибутам Бога всеприсутствия и вечности в силу нарушения логики соотношения Бога с категориями пространства и времени: «пространства, — потому что Бог отделяется от мира, как одно пространственное целое от другого; времени, — потому что в деятельности Божества разделяются два временные момента — время до создания мира и затем прекращения всякого отношения к миру». В конечном счете мы приходим к представлению о Боге, Который не обладает полнотой совершенств. Исходя из этой логики, тот взгляд на Бога, который транслируется деистами, оказывается теоретически скудным, поскольку, как отмечает Кудрявцев-Платонов, противоречит априорному понятию о Боге как Существе абсолютно совершенном. Таким образом, ход рассуждений В. Д. Кудрявцева-Платонова подталкивает к очевидному выводу, что главный интерес авторов XVII-XVIII вв., стремившихся найти некий компромисс между возрастающим неверием и религиозностью и отвергавших возможность Божественного Провидения, заключался не в выработке правильных понятий о Боге и мире, а в разрушении существующих представлений.
Последнее можно подтвердить интересным наблюдением профессора о том, что теоретические разработчики деизма зачастую расходятся в своих утверждениях, допуская взаимоисключающие тезисы. Профессор показывает, что в рамках деизма невозможно последовательно сформировать представления о мире и Боге. Так, первый тезис связывается с совершенством мира, который не требует вмешательства. Против этого профессор пишет, что представление о самоограничении Бога в принципе можно было бы допустить, если бы мир действительно не требовал вмешательства Бога в силу своего совершенства. Второй тезис деистов связан, обратно, с несовершенством мира, которое служит аргументом против Промысла, так как, согласно нерелигиозному взгляду, Бог должен был бы необходимо устранить все зло, если бы действительно принимал участие в жизни мира. Аргументы профессора против последнего тезиса будут изложены в следующем параграфе.
Итак, против первого тезиса (касающегося совершенства мира, обуславливающего его самостоятельное бытие) профессор возражает, подчеркивая, что он противоречит свойствам мира, таким как условность и ограниченность (см.: [Кудрявцев, 1915, 216]). Эти характеристики явно указывают на несовершенство мира, что ставит под сомнение идею о том, что мир может существовать автономно и без участия высшего разума. Наличие условий и ограничений в природе свидетельствует о том, что она нуждается в источнике своего бытия как по «происхождению», так и по «продолжению» [Кудрявцев, 1915, 216], т. е. бытие мира необходимо должно поддерживаться. Профессор иллюстрирует этот тезис образами пламени и растений, которые не могут существовать без условий и сил, их производящих. Пламя, например, требует топлива и кислорода, а растения нуждаются в почве, воде и солнечном свете для своего роста и развития. Таким образом, эти примеры показывают, что мир, будучи условным, не способен существовать без внешних факторов, которые обеспечивают его существование. Кудрявцев-Платонов резюмирует: «Как начало его [мира] немыслимо без верховной причины, так и продолжение его бытия немыслимо вне связи с тою же причиною» [Кудрявцев, 1915, 217]. Таким образом, идея о зависимости мира от высшего источника становится одной из центральных в обосновании действия Бога в мире посредством Промысла.
Далее профессор переходит к теистическому пониманию соотношения трансцендентности и имманентности. Виктор Дмитриевич показывает, что только Бог обладает бытием необходимым и не нуждается в сохранении бытия, присущее же миру и вещам бытие характеризуется условностью и случайностью (см.: [Кудрявцев, 1915, 230–231]).
В рамках теизма признаются следующие доктринальные положения: существенное отличие Бога и мира, относительная самостоятельность мира, пребывание Бога в мире (которые подтверждаются атрибутами неограниченности и всеприсутствия), деятельное участие Бога в жизни мира (подтверждается атрибутом абсолютной благости). Таким образом, Виктор Дмитриевич стремится показать, что теистические объяснения проблемы отношения Бога к миру выглядят более правдоподобными, чем учения деизма, так как теизм удовлетворяет атрибуту Бога Всесовершенства (главному в системе профессора) и свойствам физического мира.
В учении о Промысле Божием профессор выделяет два его вида: (1) сохранение, (2) управление. Предметы Промысла Бога у Виктора Дмитриевича, как и у проф. прот. Ф. Голубинского. следующие: (1) величайшие части мира, (2) частные и самые мелкие существа, (3) существа нравственные и одаренные жизнью, т. е. люди (как особый предмет Промысла) (см.: [Кудрявцев-Платонов, 1898, 39]). Виктор Дмитриевич, равно как и прот. Ф. Голубинский, корректирует Хр. Баумейстера, отмечая, что содействие Божие является не особым видом Промысла, а способом действия Бога в сохранении и управлении миром (см.: [Голубинский, 2006, 514; Кудрявцев-Платонов, 1871, 160]). В. Д. Кудрявцев-Платонов дает следующее определение Промыслу: «Промысл Божий есть действие Божества, которым Оно сохраняет созданный Им мир и направляет его к благу, так как только благо может быть достойною всесовершенного Существа целью, которую Оно предположило при создании мира» [Кудрявцев-Платонов, 1871, 160].
Виктор Дмитриевич стремится показать, что ограниченность и несовершенство мира подтверждают положение о необходимости сохранения и управления, а вовсе не опровергают положение о Божественном Провидении. Поскольку бытие мира не обладает свойством необходимости, то представляется невозможным объяснить то, как он может существовать вне связи со своей причиной. Таким образом, аргументом в пользу сохранения является сам факт существования мира (см.: [Кудрявцев-Платонов, 1871, 162]). Обоснование веры в то, что Бог действует в мире посредством управления и содействия (к достижению целей мира), признается профессором более сложной задачей, так как человеческий разум не может познать целый мир, а также человеку запредельно знание о будущем. Профессор отмечает: «А что касается до цели мира, то в настоящее время с достоверностью можно сказать о ней только одно, что эта цель должна быть мудрая и благая, потому что Творец мира есть Существо всесовершенное; но знание о качестве цели еще ничего не говорит о ее сущности» [Кудрявцев-Платонов, 1871, 163].
Итак, проф. Кудрявцев-Платонов апеллирует к тому, что мир представляет собой целесообразно устроенное целое, что свидетельствует о наличии высшего разума, или основоположника, который созидает этот порядок. Бессознательное, как подчеркивает профессор, не может стремиться к какой-либо цели самостоятельно. Это приводит к логичному выводу, что за сложной организацией и гармонией в природе должна стоять некая разумная сила или принцип, который направляет и координирует все процессы. Следует заметить, что эта мысль столь же стара, как и рациональная философия вообще. Такое понимание мира находит отражение в философских системах, которые еще со времен античности утверждают, что порядок и целесообразность в природе не могут возникнуть случайно.
В качестве обоснования действия Бога в мире посредством управления профессор ссылается на то, что мы можем находить некоторые «следы» Промысла. Их можно обнаружить, в том числе, в самой истории. Так, например, в произведении «Безусловный прогресс и истинное усовершенствование рода человеческого» В. Д. Кудрявцев-Платонов поднимает важные вопросы о природе христианства и его историческом возникновении. Он акцентирует внимание на том, что христианство, несмотря на свои скромные начала и отсутствие материальных ресурсов, смогло преодолеть невероятные препятствия и распространиться по всему миру, что явно указывает на Промысл Божий, который, к слову, проявлялся и в истории, и в судьбах многих народов. Профессор задается вопросом о том, как из «развращенного, неверующего или суеверного» мира могло возникнуть новое общество, полное жизни и силы. Он указывает на то, что первые проповедники христианства были простыми людьми, лишенными образования и власти, что делает их успех еще более удивительным. Далее он говорит о том, что, несмотря на гонения и преследования, христианство смогло выжить и развиться, что свидетельствует о его Божественном происхождении. Кудрявцев-Платонов использует метафору зерна горчичного, чтобы показать, как из малых и, казалось бы, ничтожных начал может вырасти нечто по-настоящему великое и значимое — христианство. Таким образом, его рассуждения подчеркивают идею о том, что истинное усовершенствование и прогресс человечества возможны только через Божественный Промысл (см.: [Кудрявцев-Платонов, 1860, 39–40]).
В. Д. Кудрявцев-Платонов акцентирует внимание на том, что история не может быть понята лишь через призму человеческих прихотей и действий. Он подчеркивает, что частные интересы отдельных людей и народов хотя и играют значительную роль в историческом процессе, не могут объяснить целостность и разумность исторического развития (см.: [Кудрявцев, 1915, 234]). По его мнению, для того чтобы осознать целесообразность истории, необходимо признать наличие Божественного мироправ-ления. Это мироправление, по его мнению, обеспечивает направление и смысл историческим событиям, которые могут казаться случайными или хаотичными только при поверхностном взгляде. Кудрявцев-Платонов утверждает, что именно Божественная воля и Промысл дают возможность развиваться миру разумно. Таково возражение Кудрявцева-Платонова против секулярного подхода, которое сводится к тому, что без учета духовного аспекта мы не сможем постичь полную картину исторического процесса.
Как могут сочетаться зло и Божественный Промысл?
Вначале хотелось бы отметить, что проблема зла не всегда была в фокусе религиозной проблематики. Как отмечает А. М. Гагинский, данный вызов против теизма формируется достаточно поздно, к XVII в. (см.: [Гагинский, 2023, 120]). Весьма интересна мысль Алексея Михайловича о том, что с наступлением эпохи модерна происходит изменение онтологической парадигмы: «на смену иерархии сущего приходит униво-кальное бытие, в рамках которого довольно трудно найти место для Божественного, а потому оно оттесняется в область сверхъестественного, то есть чего-то добавочного к области природы» [Гагинский, 2023, 121].
Возвращаясь к разбору интеллектуального наследия В. Д. Кудрявцева-Платонова, отметим, что именно этому вызову он и противостоит. Так, в своем труде «Начальные основания философии» профессор утверждает, что проявления зла в физическом и духовном мирах не являются столь серьезными аргументами против концепции Божественного Провидения, как представляют это деисты.
Относительно проявления в мире зла физического профессор отмечает, что всякого рода несовершенства мира объясняются исходя из самого понятия о мире, в котором «естественно могут иметь место явления, не соответствующие идее абсолютного совершенства» [Кудрявцев, 1915, 235]. Если бы всемогущество Бога было направлено на устранение явлений, противоречащих идее абсолютного совершенства, это бы, по мысли профессора, нарушило относительную самостоятельность мира. Кроме того, если бы сила всемогущества Бога распространилась на устранение несовершенств в мире духовном, это бы привело к уничтожению свободной воли человека — ключевого аспекта духовно-разумной природы.
Далее при изложении материала мы сначала сосредоточимся на решении вопроса зла физического, а затем рассмотрим взгляд профессора относительно зла духовного в контексте обоснования рациональности веры в Промысл Божий. По его мнению, явления физического мира, наносящие ущерб человеку, не нарушают общей гармонии и целесообразности, заложенной Творцом. Телеология лежит в основе построений профессора относительно обоснования рациональности веры в Промысл Божий, этой теме, к слову, он уделяет особое внимание в разделе космологии, предлагая эмпирические и рациональные аргументы (см: [Кудрявцев, 1915, 326-355]). Наблюдаемая целесообразность устройства мира имеет универсальное значение и только подталкивает к выводу о существовании замысла Бога о нем. Таким образом, катаклизмы и другие проявления зла могут рассматриваться как часть более широкой картины, в которой конечная цель мира остается неизменной и целесообразно устроенной (см.: [Кудрявцев, 1915, 235–236]). Более того, по мысли Виктора Дмитриевича, грозные явления природы могут служить делу воспитания6 высоких духовных и нравственных качеств и для устранения пороков в сознательных существах, людях (см.: [Кудрявцев, 1915, 237]).
Подчеркнем, что профессор апеллирует к законосообразности мира, утверждая, что она не может быть признана случайной и самобытной и что постоянство действующих в мире законов свидетельствует об истинности теизма. Важно обратить внимание: высказывая положительное мнение о теодицеe, Виктор Дмитриевич строит свою аргументацию на фоне критики деизма и материализма и использует интересную стратегию. Кудрявцев-Платонов избирает ту же линию размышления, что и критики Промысла, в частности, он акцентирует внимание, как было отмечено, на детерминированные законы Вселенной, и демонстрирует, что выводы, к которым приходят деисты, не являются обязательными, как это ими утверждается. Профессор подчеркивает, что деистический подход, сосредоточенный на рациональном объяснении мира и его законов, не учитывает более глубокие аспекты духовной реальности и человеческого опыта. Он показывает, что вера в Бога и Промысл может сосуществовать с научным пониманием мира и что существующие законы природы при этом не исключают возможности Божественного вмешательства. Таким образом, профессор Кудрявцев-Платонов стремится показать, что теодицея может быть обоснована не только философски, но и эмпирически, что подтверждает позицию о том, что критика деизма не является окончательной.
Так, профессор противопоставляет свою позицию Вольтеру, который недоумевает по поводу Лиссабонского землетрясения, и Лейбницу, предлагающему слишком оптимистичный взгляд относительно теодицеи. «Даже если бы мы вопреки очевидности захотели отрицать несовершенство мира и, увлекшись крайним оптимизмом, не находили в нем никаких недостатков, то и в этом случае не могли бы не признать того, что мир есть хотя совершенное целое, но, однако же, не абсолютно совершенное, не такое, которое не могло бы быть еще совершеннее, потому что иначе мы уравняли бы мир с Богом» [Кудрявцев-Платонов, 1871, 157]. Профессор Кудрявцев-Платонов настаивает на необходимости серьезного эмпирического подхода. Представление о Провидении исключительно как о чудесах является поверхностным, согласно его мысли. Так, Промысл, по Кудрявцеву, является не только сверхъестественным, но и постепенным и гармоничным осуществлением разумной цели мира при сохранении самостоятельности законов. Бессознательная природа не могла бы самостоятельно установить законы своего существования. Неизменяемость этих законов связана именно с совершенством Бога: если бы Он постоянно менял их, это бы и свидетельствовало о некотором несовершенстве Творца (см.: [Кудрявцев, 1915, 238-239]). Теодицея Лейбница спровоцировала только новую волну критики. «Всегда будут оставаться явления, которых истинного смысла и значения мы угадать не в силах, и, пытаясь изъяснить которые с точки зрения целесообразности, неизбежно подвергнемся опасности впасть в неудачные и произвольные предположения», — отмечает Кудрявцев [Кудрявцев-Платонов, 1871, 179]. Его апологию Промысла Божия можно свести к тезису о целесообразности устройства мира: весь порядок мира не извращается, а явления, противоречащие благу и разумности, не всеобщи.
Также Кудрявцев не обходит стороной тему действия Бога в мире посредством чудес, о которых свидетельствует богооткровенная религия христианства. Он подчеркивает, что хотя законы мира постоянны, они не являются абсолютно неизменными, и Бог может изменять их ради высшей цели. Здесь прослеживается полемика с деистами, которые утверждали, что нарушение порядка природы привело бы к перерыву в процессе, что отразилось бы на бытии целого плана мира, подобно тому, как приводит к поломке вмешательство в механизм. Однако, по замечанию профессора, это мнение содержит явную ошибку в понимании взаимоотношений частей и явлений природы между собой: это отношение, как было уже сказано, органическое, а не механическое, и деисты в этом плане непоследовательны. Виктор Дмитриевич определяет чудеса как действия Бога, превышающие естественный ход вещей, которые творит Бог в случаях, «когда без них было бы невозможно осуществление целей Провидения» [Кудрявцев-Платонов, 1871, 195]. В таком случае любое возражение относительно того, что Бог не проявил Своего чудесного вмешательства в том или ином случае, является непоследовательным, поскольку «разум здесь должен преклониться пред мыслью о непостижимости путей Промысла» в силу ограниченности человеческого ведения о «предначертаниях Божества о благе человечества». Таким образом, Кудрявцев-Платонов показывает, что вера в чудеса не может противоречить требованиям рациональности, поскольку последние не противоречат ни понятию о мире, ни понятию о Боге [Кудрявцев, 1915, 239–240]. Также относительно чудес Кудрявцев-Платонов пишет: мнение о том, что вера в чудо может быть губительной для научного знания или нравственности, является натянутым и необоснованным: во-первых, многие ученые были верующими, и это не мешало им делать открытия (см.: [Кудрявцев, 1915, 202]); во-вторых, люди способны адекватно отличать действия естественные от сверхъестественных (см.: [Кудрявцев, 1915, 204]). С тезисом о губительности веры в чудо для нравственности, который выразил И. Кант, Виктор Дмитриевич решительно не соглашается и утверждает: «Вполне мыслимо и естественно, что для заверения… Божественного происхождения предписаний нравственности и для подтверждения авторитета лиц, посылаемых для возвещения оных, Бог будет производить и явления, способные указать на их сверхъестественное происхождение, т. е. чудеса» [Кудрявцев, 1915, 207]. Таким образом, все отрицания возможности чудес как сверхъявственного участия Бога в жизни мира, человечества и отдельных людей являются, согласно Кудрявцеву, односторонними.
Отдельное внимание Виктор Дмитриевич уделяет и проблеме морального зла. Первое, что постулирует он относительно данной проблемы, — разумность мировой истории, в которой профессор наблюдает движение к совершенствованию и разумность (см.: [Кудрявцев-Платонов, 1871, 166]). Разумность исторических процессов представляется невозможным объяснить без признания направляющей высшей воли, поскольку каждая человеческая личность руководствуется лишь своими частными представлениями и «ни один деятель, самый гениальный, не имеет и не может иметь в виду общих человечества» [Кудрявцев-Платонов, 1871, 166]. Также миро-правление следует признать и в сфере частных человеческих жизней. Отрицание последнего может быть основано только лишь на непонимании тайн Промысла Божия и, как пишет профессор, «Думать, что Бог заботится только об общем строе мира и истории человечества, значит совершенно уничтожать всякое практическое значение мысли о Промысле, узаконив полнейший нравственный индифферентизм» [Кудрявцев-Платонов, 1871, 169]. На последнее следует обратить внимание. Согласно профессору, наши побуждения к нравственной жизни тесным образом связаны с верой, что таким образом мы исполняем волю Божию. При отрицании этого сводится на нет тот путь узкий, к которому призывает религия (см.: [Кудрявцев-Платонов, 1871, 170]). Таким образом, сама нравственная деятельность людей является свидетельством в пользу признания истинности Божественного Провидения.
Также, на что необходимо обратить внимание, профессор пишет, что несмотря на очевидность существования нравственного зла, существует и нечто противоположное, характеризующееся в качестве такого же несомненного факта, — внутренняя душевная устремленность к моральному совершенствованию, которая не искореняется уклонением от добра ко злу.
Заключение
В заключение хотелось бы сказать, что В. Д. Кудрявцев-Платонов предложил оригинальное учение о Промысле Божием. Следуя структуре изложения материала, которую он перенял у прот. Федора Голубинского, Виктор Дмитриевич привнес в собственную школу новый взгляд на рассматриваемую тему действия Бога в мире, в частности, сосредоточив внимание на понятиях трансцендентности и имманентности Бога с целью формирования критического материала против направлений, в которых отвергается возможность Промысла Божия, в частности дуализма, деизма и пантеизма. Результатом его размышлений стало фундированное утверждение о когерентности теизма и, в частности, рациональности веры в Божественное Провидение.
Хотелось бы отметить, что обоснования истины христианской веры, выраженные в трех разделах естественного богословия: о бытии, о свойствах и о действиях Божиих, у В. Д. Кудрявцева-Платонова тесно взаимосвязаны и в них сохраняется единый метод исследования, что, безусловно, должно быть отмечено в качестве сильной стороны учения профессора. Результатом трудов В. Д. Кудрявцева-Платонова становится создание теодицеи как части метафизики, которая соединяет целый комплекс фундаментальных положений христианской веры между собой, делая их неразрывным целым.
Также профессор не обходит стороной свидетельства из Откровения, что Бог может действовать как воспитатель, в том числе посредством природных явлений. Данный тезис вполне можно согласовать с тем, что одной из характеристик концепции естественной теологии Виктора Дмитриевича является ее приобщенность к православной традиции, в том числе, как отмечает И. В. Цвык, в примате веры над разумом. Прот. Владимир Иванов считает последнее за достоинство, поскольку профессором была создана философская система, соответствующая православному религиозному опыту (см.: [Иванов, 1986, 336]). Этот тезис можно подтвердить обнаруженным в первом параграфе настоящей статьи сходством учений отцов Церкви с рационально-богословскими построениями профессора.
При осмыслении наследия Кудрявцева-Платонова важно учитывать, что рассматриваемая тема Промысла и тесно связанная с ней проблема зла являются одними из самых сложных в апологетике. Необходимо заметить здесь: в целом, сложно представить, что проблема теодицеи когда-нибудь будет решена. Об этом же говорит и сам В. Д. Кудрявцев-Платонов, размышляя о действии Бога в мире посредством управления, отмечая, что данная задача неосуществима как минимум потому, что нам недоступно знание будущего, а значит — и всеобъемлющее знание о целях бытия всех предметов тварного космоса.
Ему по-своему вторит современный теолог А. М. Гагинский: «В самом деле, имеется множество способов рассмотрения проблемы зла в философско-богословских текстах, однако огромное количество публикаций на эту тему, которое к тому же постоянно увеличивается, свидетельствует о том, что проблема не только далека от разрешения, но становится все более и более актуальной» [Гагинский, 2020, 68].
Думаю, вполне справедливо будет обратить отдельно внимание на то, что профессору удалось показать: те выводы, к которым приходят деисты, являются поверхностными, а использовавшиеся ими посылки не обязательно приводят к искомым ими же заключениям. В этой связи нелишним будет процитировать слова современного ученого, доктора физико-математических наук, профессора Соколовского института науки и технологий, старшего научного сотрудника Института теоретической физики им. Л. Д. Ландау РАН свящ. Михаила Скворцова: «Если бы Бог совсем покинул мир, то все мироздание распалось бы на составляющие части и ушло бы в ничто, из которого и было сотворено. Но придавать научной деятельности смысл познания реального происхождения неба и земли, при сотворении их (Быт. 2:4) и дерзновенно претендовать на понимание тайны зарождения жизни является, с нашей точки зрения, не чем иным, как безрассудным надмеванием плотского ума (ср. Кол. 2:18). Наука видит не реальные события Шестоднева, а их преломление в кривом зеркале тленного мира, возникшего в результате грехопадения» [Скворцов, 2020, 75]. Современная наука, можно сказать, подтверждает рассмотренные нами аргументы В. Д. Кудрявцева-Платонова против антирелигиозного течения деизма: положение об универсальности естественных законов больше не является валидным — законы общие, но о них в научном сообществе более не говорят как об обязательно универсальных (см.: [Гайслер Норман, 2004, 301]). Напрашивается вывод: профессор предложил весьма ценное обоснование положения о том, что критики христианской веры в Промысл Божий не учитывали все многообразие реальности и что последнее делает их возражения против христианства предвзятыми и заслуживающими только ответной критики, которую и предложил в своих богословских сочинениях Виктор Дмитриевич.
Полагаю, данную неисчерпаемую тему можно завершить словами В. Д. Кудрявцева-Платонова о возможности действия Бога в мире посредством чудес: «Разбор возражений против возможности сверхъестественных действий Промысла показывает, что эти возражения вовсе не так значительны, чтобы давать теоретическому мышлению право на a priori отвергать представляемые религиею факты таких сверхъестественных действий» [Кудрявцев-Платонов, 1871, 208–209].