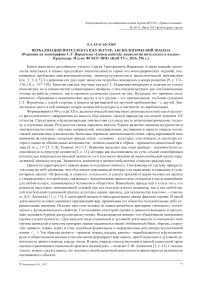Вербализация интеллекта в культуре: аксиологический подход (рецензия на монографию С.Г. Воркачева "Lumen naturale: аксиология интеллекта в языке". Краснодар: Изд-во ФГБОУ ВПО "КубГТУ", 2016. 296 с.)
Автор: Красавский Николай Алексеевич
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Хроника
Статья в выпуске: 4 (51), 2017 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14822613
IDR: 14822613
Текст статьи Вербализация интеллекта в культуре: аксиологический подход (рецензия на монографию С.Г. Воркачева "Lumen naturale: аксиология интеллекта в языке". Краснодар: Изд-во ФГБОУ ВПО "КубГТУ", 2016. 296 с.)
Книга известного российского ученого Сергея Григорьевича Воркачева «Lumen naturale: аксиология интеллекта в языке» продолжает многочисленную серию его монографических изданий, посвященных проблемам лингвоконцептологии, лингвокультурологии и аксиологической лингвистики [см.: 2; 3; 4; 5]. Содержание его двух книг нами уже подробно освещалось в жанре рецензии [9, с. 174– 176; 10, с. 157–159]. Заметим еще раз: научные труды С.Г. Воркачева интересны и полезны не только языковедам, но и специалистам гуманитарного профиля, о чем свидетельствуют как опубликованные отзывы на работы ученого, так и огромное количество ссылок на них. Полагаем, что причины столь активного обращения в академических кругах к его трудам – это оригинальные, глубокие суждения С.Г. Воркачева, с одной стороны, и широта затрагиваемой им научной проблематики – с другой. Значительное место в ней занимает вопрос ценностей культуры и, в частности, их вербализации.
Формирование в 90-е годы ХХ в. аксиологической лингвистики (лингвоаксиологии) как отдельного филологического направления во многом обусловлено сменой парадигмы последней четверти XX столетия. Структурная и функциональная лингвистика уступила место антропоцентрическому подходу к изучению языка. Результатом смены парадигм явилось бурное развитие лингвокультурологии и лингвоконцептологии – научных направлений, интегрирующих достижения в первую очередь когнитивной лингвистики и аксиологии. Базисным термином лингвоконцептологии, сфокусировавшей свое внимание на описании элементов триады «язык – сознание – культура», стал концепт, в структуре которого одним из обязательных компонентов – помимо понятия и образа – признается ценностный признак [4; 6, с. 14–23; 7; 8]. Укажем, что С.Г. Воркачев выделяет еще один признак – значимостную составляющую в структуре концепта [3, с. 13], которая, как мы понимаем, по сути, служит своеобразным показателем максимально высокой ценности того или иного явления на аксиологической шкале определенной лингвокультуры. Значимость концептов в ценностной системе социума градуируема.
Ценности характеризуют цивилизацию и отдельную личность. Они фиксируют систему приоритетов социума либо индивида, чем обусловлен повышенный интерес к их выявлению и описанию в гуманитарных науках: «И философ, и социолог, и психолог, и совсем далекий от науки человек согласятся с утверждением, что проблемы, связанные с человеческими ценностями, относятся к числу важнейших для любой из наук, занимающихся человеком и обществом. Важнейших прежде всего в силу того, что ценности выступают интегративной основой как для отдельно взятого индивида, так и для любой малой или большой социальной группы, культуры, нации, наконец, для человечества в целом», – отмечает Д.А. Леонтьев [11, с. 15]. С категорией ценности непосредственно связан феномен оценки. В своей деятельности человек оценивает окружающий мир, приписывая его объектам положительные либо отрицательные значения. Исходит при этом человек из самых различных критериев этического, эстетического, функционального свойства. Соотношение категорий оценки и ценности вызывало и продолжает вызывать бурные дискуссии среди ученых. Высказывается мнение, что объективным основанием оценки служит ценность: «Для каждого вида социальной и духовной деятельности и связанной с нею группы ценностей в качестве критерия оценки выдвигается некий обобщенный образ, образец, стереотип: правило, норма, идеал и тому подобные формальные и неформальные регуляторы коллективной жизни. <…> Эти образцы ценного – правила, нормы, идеалы, каноны – вырабатываются и функционируют в общественном мнении и так или иначе формируют мир оценок, преобладающих в духовной деятельности данного народа, класса, эпохи. В свою очередь господствующие в данной социальной среде оценки ограничивают оценочный произвол индивидов», – полагает С.Ф. Анисимов [1, с. 45]. Следовательно, можно сделать вывод, что человек в своей оценочной деятельности ориентируется на ценность оцениваемого объекта.
Отечественными лингвоконцептологами, как известно, уже изучены сотни концептов на материале разных языков. Вместе с тем, на карте лингвоконцептологов имеются и лакуны. Одной из них является феномен интеллекта, ставший объектом исследования С.Г. Воркачева. Интеллект – это прежде всего умственные способности человека, использование результатов познания им в его жизнедеятельности с целью выживания в природе. С.Г. Воркачев справедливо утверждает: «Количественная параметризация познавательной способности, соотносимая со степенью ее пригодности к обеспечению целей выживания индивида, аксиологична : обладание высоким интеллектом (умом) оценивается положительно, дефицит интеллекта (глупость) оценивается отрицательно, а его полное отсутствие (безумие) – тем более» (с. 6. курсив наш. – Н.К. ). Автор при этом указывает и на этическое измерение интеллекта. В данном случае С.Г. Воркачев выделяет такие разновидности интеллекта, как мудрость и хитрость (Там же). Таким образом, автор монографии предлагает описание целого ряда концептов (ум, глупость, безумие, мудрость, хитрость) в аксиологическом аспекте. С.Г. Воркачев выстраивает концепты ума, глупости, безумия на оценочной шкале: «Основание оценки задает тип оценочной шкалы и соответствующего оценочного оператора: объективная оценка через измерение показывает, насколько быстро и успешно протагонист адаптируется к новой для него ситуации, субъективная оценка указывает на степень полезности интеллектуальной способности протагониста для выживания вообще и на нормативность ориентационного поведения протагониста в частности. Тогда количественная шкала интеллекта будет выглядеть как «гениальность, талант, ум : глупость, слабоумие, безумие», а его нормативная шкала как положительная не-норма (гениальность/талант) : норма (ум, глупость) : отрицательная не-норма (слабоумие, безумие) (с. 10-11). У мудрости и хитрости, как отмечает автор, иное измерение – этическое.
На основе научных текстов, в том числе и энциклопедических дефиниций, С.Г. Воркачев выделяет свойства интеллекта как параметрические признаки: быстро и легко приобретать знания и умения, в глубине понимания, скорость и точность переработки информации, самостоятельность , критичность и гибкость мышления (с. 13. – курсив С.Г. Воркачева). В семантическом составе интеллекта как познавательной способности автор книги выделяет разностатусные признаки – родовые и видовые. В качестве родового признака предлагается рассматривать диспозитивность (свойство предрасположенности к какой-либо деятельности). С.Г. Воркачев пишет: «Видовыми отличиями, позволяющими отделить познавательную способность от ближайших способностей – эмоциональной и волевой, выступают акциональность как направленность на выполнение действий и когнитивность как направленность на осуществление операций, связанных со знанием и мышлением» (с. 19). Характеризуя интеллект на материале научных текстов, С.Г. Воркачев приходит к выводу о наличии у этого феномена оценочной асимметрии: «У мудрости отсутствует отрицательно-оценочный противочлен – в лучшем случае в таком качестве может выступать рассудок как излишний рационализм, мелочная расчетливость» (с. 20).
Помимо научного дискурса эмпирической базой исследования служат религиозный, игровой (юмористический) и художественный дискурс. К анализу привлекаются также лексикографические данные, паремический фонд, фольклор, афористика.
В религиозном дискурсе (текстах библии) С.Г. Воркачев рассматривает пары слов «ум» и «разум», «глупость» и «безумие», «хитрость» и «лукавство». Отдельно автор останавливается на характеристике мудрости.
Сопоставление в библейских текстах ума и разума позволяет автору монографии выявить в этих двух феноменах как сходства, так и отличия. Разум в библейских текстах, так же как и ум, – это «некий невидимый когнитивный орган познания, однако его функции уже отличаются от функций ума: он отправляет к способности понимания («разумения») как выявления причинно-следственных связей и суждения, т.е. отличения добра и зла. Если ум – средство достижения промежуточных целей, то в функции разума входит, главным образом, постановка конечных целей – нахождение смысла сущего» (с. 26. курсив С.Г. Воркачева). Глупость, равно как и безумие, осуждается в библейских текстах. «Единственной разновидностью глупости, оцениваемой положительно, выступает простота/просто- душие», – пишет автор (с. 35). Глупость метафоризируется редко. Она «уподобляется, главным образом, какой-либо тяжелой субстанции» (с. 35-36). Интерпретируя контексты употребления слова «мудрость», С.Г. Воркачев делает вывод, что она признается «добродетелью, состоящей, прежде всего, в соблюдении закона и заповедей» (Там же). Органом мудрости в библии является сердце. Библейская мудрость часто метафоризируется. Установлено, что «мудрость совершает все действия, присущие человеку, – она передвигается, проживает, отдыхает, говорит, сидит» (с. 43). У мудрости положительнооценочная коннотация.
Феномен «интеллект», согласно С.Г. Воркачеву, находит свое речевое воплощение в игровом (юмористическом) дискурсе, в частности, в таких его жанрах, как анекдот, эпиграмма, частушка, эстрадная шутка. Центральным понятием этого дискурса выступает языковая игра, создаваемая посредством иронии и самоиронии, насмешки и самонасмешки, сарказма, гротеска, парадокса (с. 179). В указанных выше жанрах наиболее часто игровое начало проявляется в анекдотах. При этом, как правило, актуализируются концепты «ум» и «глупость», что объясняется, согласно С.Г. Воркачеву, следующим обстоятельством: «Обыденному карнавальному сознанию нет особого дела до мудрости и хитрости, анекдоты вращаются вокруг оси «глупость – ум» (с. 205).
Рассуждая об известном русском сказочном персонаже Иване-дураке, автор монографии замечает: «Русское национальное сознание не верит в рассудочность, мелочный практицизм, оно убеждено в том, что тот, кто на первый взгляд кажется глупым и убогим, неприспособленным к жизни, в конечном итоге оказывается умным и успешным» (с. 214). Далее автор пишет: «Глупость – это всего лишь одна из черт сказочного дурака, его характер в целом проявляется в его отношении к другим людям, в отношении к делу, в отношении к самому себе и в отношении к собственности. Характер сказочного дурака прежде всего противоречив – в нем сочетаются взаимоисключающие психологические свойства: лень и трудолюбие, доброта и жестокость, хитрость и простота» (с. 223).
Анализ поэтических текстов позволяет С.Г. Воркачеву сделать следующие выводы: «В лексической системе русского языка присутствует триада нормы интеллекта – ум, разум, рассудок. От оценочно-нейтрального «ума» два других члена триады – «разум» и «рассудок» – отличаются своим оценочным знаком: разум, ассоциируемый с высшим знанием, в идеале оценивается положительно, а рассудок, ассоциируемый со знанием обыденным, практическим и заземленным, оценивается скорее отрицательно» (с. 142). О мудрости в монографии читаем следующее: «Как знание мудрость носит объектный характер, ее можно познать, понять, постичь, ей можно научиться, это не просто знание, а высшее знание, помогающее человеку обрести смысл жизни и осознать свое место в бытии. В отличие от ума мудрость пребывает не столько в голове, сколько в сердце и душе» (с. 144). Что касается концептов «хитрость» и «лукавство», то они в поэтическом дискурсе отрицательно-оценочны.
В одной из глав книги дается интерпретация лексикографического описания интеллекта, а именно – ума, глупости, хитрости, лукавства и мудрости. Выявлено, что базовыми словами, семантика которых выражает «общую познавательную способность в единстве ее основных модусов реализации «понимание – мышление – обучение», выступают лексемы «ум», «разум», «рассудок», «интеллект» (с. 77). Статус доминанты в этом ряду имеет слово «ум». Данные слова положительно-оценочны. Интересен, на наш взгляд, вывод С.Г. Воркачева об оценке производных слов «интеллектуал», «интеллектуальный», «интеллигент», «интеллигентский». Он пишет: «При однозначно положительной характеристике «интеллектуала» и «интеллектуального» в семантике «интеллигента» и производного от него прилагательного «интеллигентский» довольно неожиданно возникают отрицательные коннотации, связанные с общим отношением к интеллигенции в советский период» (с. 77). Мудрость, как установлено С.Г. Воркачевым, оценивается, в целом, положительно, однако «в семантике практически всех лексем, производных от корня «мудр-», присутствуют отрицательные оценочные коннотации» (с. 79). Хитрость и лукавство оцениваются, согласно лексикографическим данным, преимущественно отрицательно. Что же касается глупости, то ее «словарные показатели характеризуют главным образом «социальный интеллект» личности, который проявляется, прежде всего, в словах и поступках»
(с. 78). Глупость порицается, но к ней нередко относятся снисходительно, если человек молод и не имеет еще социального опыта.
Тщательное изучение русского паремического фонда позволяет автору выявить примерно полторы тысячи единиц, вербализовавших ум, глупость, хитрость и мудрость. Из них более 80% – это паремии об уме и глупости. К числу наиболее частотных тематических групп об уме относятся следующие – «ум и богатство», «ум и счастье», «ум и возраст», «ум и алкоголь» (с. 83). Автором монографии отмечается оценочная противоречивость многих паремий. Они оценочно-амбивалентны. Оценочно-амбивалентны также и паремии о глупости: «Аксиология глупости столь же противоречива, как и аксиология ума» (с. 89).
Благодатным материалом для описания феномена «интеллект» оказались афоризмы. Автор монографии, в частности, приходит к выводу, что «… в корпусе афористических единиц, посвященных уму, в полной мере реализуются такие специфические признаки этих универсальных высказываний, как антонимичность, метафоричность и парадоксальность» (с. 151). В данной части книги много внимания уделено описанию средств вербализации концепта «ум». К их числу относятся образные сравнения и метафоры (особенно продуктивными оказались фотометафора, фитометафора, инструментальная метафора). Значителен индекс частотности употребления персонификации. Заслуживает нашего внимания установленный С.Г. Воркачевым факт значительного количественного преобладания афоризмов о глупости и безумстве над афоризмами об уме (разница почти в два раза). Как правило, глупость оценивается в афористическом фонде отрицательно. Что касается хитрости, то она оценивается преимущественно отрицательно. Хитрость как качество характера приписывается значительно чаще женщинам, чем мужчинам. Глупость и хитрость, согласно наблюдениям С.Г. Воркачева, выражаются в афористическом фонде чаще всего зоометафорами (с. 171).
Читатель обнаружит в книге много и других содержательных выводов и интересных наблюдений С.Г. Воркачева.
Сердечно поздравляем Сергея Григорьевича Воркачева с выходом монографии и ждем с нетерпением от известного ученого новых работ!
Список литературы Вербализация интеллекта в культуре: аксиологический подход (рецензия на монографию С.Г. Воркачева "Lumen naturale: аксиология интеллекта в языке". Краснодар: Изд-во ФГБОУ ВПО "КубГТУ", 2016. 296 с.)
- Анисимов С.Ф. Духовные ценности: производство и потребление. М.: «Мысль», 1988.
- Воркачев С.Г. Любовь как лингвокультурный концепт. М.: Гнозис, 2007.
- Воркачев С.Г. Правды ищи: идея справедливости в русской лингвокультуре. Волгоград, «Парадигма», 2009.
- Воркачев С.Г. Anglica selecta: избранные работы по лингвоконцептологии. Волгоград, «Парадигма», 2012.
- Воркачев С.Г. Singularia tantum: идеологема «народ» в русской лингвокультуре. Волгоград, «Парадигма», 2013.
- Карасик В.И. Концепт как категория лингвокультурологии//Известия Волгоградского государственного педагогического университета. Серия «Филологические науки». №1 (01). 2002. С. 14-23.
- Карасик В.И. Языковая спираль: ценности, знаки, мотивы. Волгоград, «Парадигма», 2015.
- Карасик В.И., Красавский Н.А., Слышкин Г.Г. Лингвоконцептология. Уч. пособие. Волгоград, «Перемена», 2014.
- Красавский Н.А. Рецензия на монографию С.Г. Воркачева «Правды ищи: идея справедливости в русской лингвокультуре». Волгоград, «Парадигма», 2009//Известия Волгоградского государственного педагогического университета. Серия «Филологические науки». №10 (54). 2010. С. 174-176.
- Красавский Н.А. Рецензия на монографию С.Г. Воркачева «Anglica selecta: избранные работы по лингвоконцептологии». Волгоград, «Парадигма», 2012//Известия Волгоградского государственного педагогического университета. Серия «Филологические науки». №6 (81). 2013. С. 157-159.
- Леонтьев Д.А. Ценность как междисциплинарное понятие: опыт многомерной реконструкции//Вопросы философии. №4. 1996. С. 15-26.