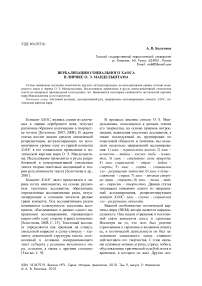Вербализация социального хаоса в лирике О. Э. Мандельштама
Автор: Болотнов Алексей Владимирович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 2 т.9, 2010 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена изучению лексических средств, актуализирующих на ассоциативном уровне стихию социального хаоса в лирике О. Э. Мандельштама. Исследование проводится в русле коммуникативной стилистики текста на материале произведений поэта разных лет. Выявляются некоторые особенности поэтической картины мира Мандельштама и его идиостиля.
Текстовый ассоциат, ассоциативный ряд, направление ассоциирования, концепт хаос, поэтическая картина мира
Короткий адрес: https://sciup.org/14737234
IDR: 14737234 | УДК: 80
Текст научной статьи Вербализация социального хаоса в лирике О. Э. Мандельштама
Концепт ХАОС , являясь одним из ключевых в лирике серебряного века, получил различное образное воплощение в творчестве поэтов [Болотнов, 2007; 2008]. В задачи статьи входит анализ средств лексической репрезентации, актуализирующих на ассоциативном уровне одну из граней концепта ХАОС в его социальном проявлении в поэтической картине мира О. Э. Мандельштама. Исследование проводится в русле разработанной в коммуникативной стилистике текста теории текстовых ассоциаций и теории регулятивности текста [Болотнова и др., 2001].
Концепт ХАОС часто представлен в лирике поэта имплицитно, на основе различных текстовых ассоциатов, образующих определенные ассоциативные ряды, актуализирующие в сознании читателя разные грани концепта. Под ассоциативным рядом понимается «совокупность текстовых ассоциатов, объединенных в рамках одного направления ассоциирования, отражающего какую-либо одну сторону (грань) концепта» [Болотнова, 2008. С. 15]. Текстовый ассоциат определяется как «реакция на стимул, смысловой коррелят к слову-стимулу – элементу лексической структуры текста, соотносимый в сознании воспринимающего текст субъекта с реалиями текстового мира , сознания , а также с другими словами » [Там же. С. 9].
В процессе анализа стихов О. Э. Мандельштама, относящихся к разным этапам его творчества, на основе приемов интроспекции, выявления текстовых ассоциатов, а также последующей их группировки по смысловой общности и тематике, мы выделили несколько направлений ассоциирования: 1) хаос – первооснова жизни ; 2) хаос – вечность – тайна – космос (небо – планеты) ; 3) хаос – стихийные силы природы ; 4) хаос социальный – страх – война – смерть ; 5) хаос – смута – социальное зло – разрушение личности ; 6) хаос в душе – смятение – страх ; 7) хаос – темная сторона души – страсть ; 8) хаос – тьма – тайна – страсть – творчество. Данная статья посвящена описанию одного из направлений ассоциирования, репрезентирующих концепт ХАОС : хаос – смута – социальное зло – разрушение личности .
Важной особенностью поэтической картины мира (ПКМ) автора является парадоксальность. Она нашла отражение в постоянной связи концептов хаоса и гармонии . Несмотря на то, что поэт был увлечен стремлением к гармонии и желанием понять ее, в поэтической деятельности он был заложником социального хаоса, ставшего лейтмотивом его творчества. С этим связаны основные мотивы угрозы, страха, побега, обусловленные трагической судьбой поэта и временем, в котором он жил. Другая осо-
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2010. Том 9, выпуск 2: Филология © А. В. Болотнов, 2010
бенность ПКМ Мандельштама – мозаичность и одновременное стремление к единству, синтезу в отражении картины мира (см. о концепте СВЯЗЬ и категории единство в лирике поэта в [Васильева, 2004]). Абстрактность и замкнутость символизма преодолеваются в лирике поэта стремлением к совершенству и точности формы, а также ясности образов, характерных для акмеизма. «Он был оппонентом дряхлеющего символизма, но и его преемником. Преемником, но и оппонентом» [Пикач, 1997. С. 13]. Следует отметить, что эстетика и патетика акмеизма со временем уходят в творчестве поэта на второй план, что объясняется изменением мировидения автора, неизбежным вторжением в его творчество социальной тематики. Рассмотрим подробнее отражение стихии социального хаоса в рамках ассоциативного направления хаос - смута - социальное зло - разрушение личности в лирике поэта.
Предощущение социального хаоса и грядущей катастрофы в стране представлены уже в стихотворении 1916 г. «О, этот воздух, смутой пьяный…»: О, этот воздух, смутой пьяный, / На черной площади Кремля / Качают шаткий «мир» смутьяны, / Тревожно пахнут тополя. В этих строках отражена тревога автора перед смутой, которую он чувствует в обществе: Повсюду скрытое горенье, / В кувшинах спрятанный огонь… Продолжением мотивов, связанных с социальным хаосом, стало стихотворение «Кассандре». Написанное в декабре 1917 г., оно воспринимается как дурная весть о революции (сравним образ Кассандры, которая пророчествует о недоброй судьбе). Автор, таким образом, уподобляет себя пророку, который предвидит и чувствует ужасы грядущего, сопереживает всем, но не в силах ничего изменить: …И в декабре семнадцатого года / Всё потеряли мы, любя: / Один ограблен волею народа, / Другой ограбил сам себя...// Когда-нибудь в столице шалой, / На скифском празднике, на берегу Невы, / При звуках омерзительного бала / Сорвут платок с прекрасной головы... // Но если эта жизнь - необходимость бреда / И корабельный лес - высокие дома, - / Лети, безрукая победа, / Гиперборейская чума! // На площади с броневиками / Я вижу человека: он / Волков горящими пугает головнями - / Свобода, равенство, закон! Хаос проявляется здесь как социальная стихия, связанная с революционными событиями в стране. При этом автор использует особые эпитеты (столица шалая), аллегории и образные перифразы, усиливающие дикость происходящего (ср.: скифский праздник), разгул страстей, беспорядок (При звуках омерзительного бала / Сорвут платок с прекрасной головы…). Буйство толпы здесь образно передано с помощью детали. К социальному хаосу можно отнести определение современной поэту жизни как бреда (Но если эта жизнь - необходимость бреда), обращение к образу бессмысленной и угрожающей всему живому победе (Лети, безрукая победа, / Гиперборейская чума!). Образ безрукой богини, символизирующей победу, характеризуется в данном контексте смысловой двуплановостью. Гиперборейская чума означает опасность, угрозу. Прием эвфемизации, связанный с образом Керенского в заключительных строках стихотворения, актуализирует политические события 1917 г. в стране.
Направление ассоциирования, связанное с социальным хаосом, особенно характерно для стихотворений, написанных после революции. Стихотворение «Кто знает, может быть, не хватит мне свечи…» (1917) проникнуто атмосферой безысходности перед грядущими переменами, которые навсегда изменят привычную жизнь людей и разрушат старый уклад. Ощущается одиночество и отстраненность лирического героя от событий в Москве в ноябре 1917 г. Социальный хаос воспринимается как смута, которая влечет разрушительные перемены и разрыв с прошлым. Это выражается через символы: ночь, мрак, слепота, разрушенная Москва, муки раздора – символы социального хаоса; надену митру мрака – символ ухода от мирской жизни и конфликтов; свеча – символ надежды и света. Лирический герой мечтает надеть на себя митру мрака, уйти от всего, предощущая свою трагическую судьбу и проводя параллель с судьбой последнего патриарха-мученика Тихона.
В стихотворении «Когда октябрьский нам готовил временщик…» отражена картина социального апокалипсиса с буйством народных масс, с жаждой уничтожить все, что мешает и встает на пути революции. Вместе с тем это стихотворение по форме напоминает оду, восхваляет справедливую власть и порицает кровавых узурпаторов, которые стремятся ее захватить. Есть лич- ности, олицетворяющие справедливое течение истории и порядка (по мнению Мандельштама, это Керенский), и есть временщики, противостоящие ходу истории (Ленин), которые вносят хаос и дисгармонию в общество, разрушают, истязают и раскалывают страну. В событиях, потрясающих основы истории, автор стоит на стороне порядка, а не хаоса. Данный текст наглядно показывает, что поэт придерживался умеренных взглядов и не мог принять революцию и диктатуру: Когда октябрьский нам готовил временщик / Ярмо насилия и злобы / И ощетинился убийца-броневик / И пулеметчик низколобый - // Керенского распять потребовал солдат, / И злая чернь рукоплескала: / Нам сердце на штыки позволил взять Пилат, / Чтоб сердце биться перестало! В тексте есть аллюзия с Французской революцией (ср. обращение к свободному гражданину). Социальному хаосу, поглотившему Россию, мог противостоять, по мнению автора, тот, кто предан идеалам гармонии и порядка, кто чувствует творческое наитие, кто способен пожертвовать собой ради общего блага: И укоризненно мелькает эта тень, / Где зданий красная подкова, / Как будто слышу я в октябрьский тусклый день: / - Вязать его, щенка Петрова! // Среди гражданских бурь и яростных личин / Тончайшим гневом пламенея, / Ты шел бестрепетно, свободный гражданин, куда вела тебя Психея. Народ идет за мнимыми вождями, распиная и убивая тех, кто может принести ему благо: И если для других восторженный народ / Венки свивает золотые - / Благословить тебя в глубокий ад сойдет/ Стопою легкою Россия!
Образ социального хаоса нашел яркое воплощение в данном стихотворении благодаря ассоциативной сопряженности выделенных лексических единиц и структур. Текст актуализирует признаки социального хаоса: «стихийность», «сила», «ярость», «угроза», «смерть». Усилению регулятивного эффекта в нем служат: метафоры, включая олицетворение (зданий красная подкова - Дворцовая площадь; ощетинился убийца-броневик)), синекдоха (нам сердце на штыки позволил взять Пилат, чтоб сердце биться перестало; символы (Пилат - символ несправедливого суда; Психея - символ гармонии, души и творчества); прецедентные тексты (-Вязать его, щенка Петрова!); персонификация (Благословить тебя в глубокий ад сойдет / Стопою легкою Россия!).
В 1918 г. было написано другое произведение «Прославим, братья, сумерки свободы...», важное для осмысления социального хаоса. Это был этапный год для развития страны, еще не угас огонь гражданской войны, но уже была близка к завершению первая мировая война. Стихотворение вписывается в контекст этих двух масштабных событий: Прославим, братья, сумерки свободы, / Великий сумеречный год! / В кипящие ночные воды / Опущен грузный лес тенет. / Восходишь ты в глухие годы, / О солнце, судия-народ! Ключевыми здесь являются образы сумеречного года, кипящих ночных вод, леса тенёт, которые актуализируют различные проявления хаоса: от стихийных процессов в природе, которые несут угрозу, - до общества, которое, следуя этим стихиям, вбирает их в свою сущность. Стихотворение отличается повышенной экспрессией в отражении социального хаоса: Прославим роковое бремя, / Которое в слезах народный вождь берет. / Прославим власти сумрачное бремя, / Ее невыносимый гнет./ В ком сердце есть, тот должен слышать, время, / Как твой корабль ко дну идет. Корабль, идущий ко дну, символизирует распад Российской империи, которая уже никогда не будет существовать в прежних границах: Мы в легионы боевые / Связали ласточек - и вот / Не видно солнца, вся стихия / Щебечет, движется, живет, / Сквозь сети - сумерки густые / Не видно солнца, и земля плывет. Боевые легионы -образ-символ, ассоциирующийся с армией. Ласточки символизируют свободу и природное начало. Смысловые признаки тьмы, явной угрозы, масштабной силы, которую нельзя контролировать и понять, вызывают ассоциации с хаосом: вся стихия, сквозь сети, сумерки густые, не видно солнца, земля плывёт. В связи с изображением социального хаоса актуализируется мотив коллективной памяти народа, из которой нельзя стереть воспоминания о величайшем горе, постигшем страну, - первой мировой войне, революции, гражданской войне: Ну что ж, попробуем: огромный, неуклюжий, / скрипучий поворот руля. / Земля плывет. Мужайтесь, мужи, / Как плугом океан деля, / Мы будем помнить и в летейской стуже, / Что десяти небес нам стоила земля. Ряд аллегорических образов, связанных с темой власти и государства, выражают мысль о том, что страна и народ завершают один путь и начинают другой. Автор подчеркивает, что этот путь не стоит тех жертв, которые были принесены народом.
Социальный хаос предстает фоном в стихотворении «В Петербурге мы сойдемся снова...» (1920), посвященном О. Арбениной. На первом плане здесь показаны взаимоотношения лирического героя и героини. Другим ключевым образом является многоплановый образ ночи, сошедшей на землю и поглотившей ее. Символичен мотив угрозы, ассоциативно связанный с этим образом: В черном бархате советской ночи, // В бархате всемирной пустоты, / Все поют блаженных жён родные очи, / Все цветут бессмертные цветы. Хронотоп в этом стихотворении социально окрашен ( В черном бархате советской ночи ). Ассоциации с концептом ХАОС возникают не только благодаря актуализации смыслового признака ‘тьма’, но и признаков ‘масштабность’, ‘пустота’ ( В бархате всемирной пустоты ) и признака ‘угроза’ ( Часовых я не боюсь; Дикой кошкой горбится столица, / На мосту патруль стоит, / Только злой мотор во мгле промчится / И кукушкой прокричит ). Особенно значима в этом стихотворении роль эпитетов ( дикой, злой, черной, темные и др.), сравнений ( словно солнце; дикой кошкой; прокричит кукушкой ), метафор, включая олицетворения ( советская ночь, горбится столица, злой мотор... прокричит ). Автор использует символы, усиливающие угрозу: Только злой мотор во мгле промчится / И кукушкой прокричит. Здесь подразумевается наряд НКВД, отправленный для арестов. Кукушка - это не только звуковой сигнал, но и «вещая птица, определяющая долготу человеческой жизни» [Грушко, Медведев, 1995. С. 171]. В произведении затронута и связанная с образом Слова тема искусства в смутное время. Несмотря на социальный хаос, на черную советскую ночь , спасением для лирического героя являются любовь и творчество: Где-то хоры сладкие Орфея / И родные темные зрачки, / И на грядки кресел с галереи / Падают афиши-голубки.
Этапным для характеристики времени рубежа веков можно считать стихотворение поэта «Век» (1922). Социальный хаос представлен здесь градацией образов. Во-первых, это образ крови-строительницы - первоначала всего, дающего жизнь и олицетворяющего ее. Во-вторых, образ зверя, который воплощает стихийность, необузданность, безжалостность. В-третьих, образ позвоночника, аллегорически связующего в поэтической картине мира автора разные эпохи, олицетворяющего основу всего сущего. О ключевом характере данных образов можно судить по их повторению в тексте: образ крови-строительницы используется трижды; образ века-зверя актуализируется 4 раза, при этом век персонифицируется; образ позвоночника символизирует связь эпох и веков. Для автора важна трагическая гибель старого века и кровавое рождение нового: Век мой, зверь мой, кто сумеет / Заглянуть в твои зрачки / И своею кровью склеит/ Двух столетий позвонки? / Кровь-строительница хлещет / Горлом из земных вещей, / Захребетник лишь трепещет / На пороге новых дней.// Тварь, покуда жизнь хватает, / Донести хребет должна, / И невидимым играет / Позвоночником волна. <…>И еще набухнут почки, / Брызнет зелени побег, / Но разбит твой позвоночник, / Мой прекрасный жалкий век. /Ис бессмысленной улыбкой / Вспять глядишь, жесток и слаб, / Словно зверь, когда-то гибкий, / На следы своих же лап. Единство двух эпох и спасительная надежда для всего живого заключена, по мнению автора, в одухотворяющей музыкальности искусства, символом которого является флейта: Чтобы вырвать век из плена, / Чтобы новый мир начать, / Узловатых дней колена / Нужно флейтою связать.
Ключевым образом в другом стихотворении поэта «1 января 1924 г.» является образ времени. Время предстает как особый лирический персонаж, с которым вступает в диалог автор. Время бесстрастно и неумолимо, оно несет неопределенность и страх, и вместе с тем каждое его мгновение является важным для лирического героя: Кто веку поднимал болезненные веки - / Два сонных яблока больших, - / Он слышит вечно шум -когда взревели реки / Времен обманных и глухих. С образом времени связан образ хаоса. Их объединяет масштабность, наличие непредсказуемой угрозы, холодность вечности, которая отсчитывает мгновения жизни: Два сонных яблока у века-властелина / И глиняный прекрасный рот,/ Но к млеющей руке стареющего сына / Он, умирая, припадет. Автор проецирует на себя события ру- бежа веков, ровесником которых он является. Он видит и чувствует смерть одного века и наступление другого. Завершение одного цикла времени и наступление другого есть неотъемлемая черта хаоса, отражающего как развитие, так и распад всего: Я знаю, с каждым днем слабеет жизни выдох, / Еще немного - оборвут / Простую песенку о глиняных обидах / И губы оловом зальют. // О глиняная жизнь! О умиранье века! / Боюсь, лишь тот поймет тебя, / В ком беспомощная улыбка человека, / Который потерял себя. Глина символизирует хрупкость, незащищенность, недолговечность бытия человека (ср. метафоры: глиняные обиды; глиняная жизнь). Человеку отпущено определенное время. Образ века-властелина связан с временем и пространством, в котором существует лирическое я: Спит Москва, как деревянный ларь, / И некуда бежать от века-властелина. Особенно выразительна завершающая стихотворение система риторических вопросов: Кого ещё убьёшь? Кого ещё прославишь? /Какую выдумаешь ложь? В тексте неоднократно актуализируются приметы обреченности века-властелина благодаря повторяющимся эпитетам больной, болезненный, метафорам (ср. повторяющийся образ извести в крови, который олицетворяет смерть, увядание, распад).
Направление ассоциирования хаос -смута - социальное зло - разрушение личности является доминирующим в лирике поэта 30-х гг. С этим временем связан особенно тяжелый, даже трагический, период в жизни и творчестве О. Э. Мандельштама. Однако именно благодаря стихам, написанным в это время, вопреки всему, можно говорить о поэте не только как о тонком лирике, увлеченном гармонией античной культуры, пытающемся создать новое искусство, но и как о поэте, уставшем бояться, пытающемся найти себя и свое место в социальном хаосе тоталитарного государства.
Хаос в обществе отражен в стихотворениях «И по-звериному воет людьё...» (1930), «С миром державным я был лишь ребячески связан...» (1931), «За гремучую доблесть грядущих веков…» (17–18 марта 1931). Осознавая безысходность настоящего, лирический герой устремлен в будущее, став неминуемой жертвой своего времени: За гремучую доблесть грядущих веков, / За высокое племя людей, - / Я лишился и чаши на пире отцов, / И веселья, и чести своей. //
Мне на плечи кидается век-волкодав, / Но не волк я по крови своей… / Уведи меня в ночь, где течет Енисей / И сосна до звезды достает, / Потому что не волк я по крови своей / И меня только равный убьет. С хаосом в тексте связан образ века-волкодава, символизирующего время, когда лирический герой ощущает себя диким зверем, на которого ведется охота. Единственное желание лирического героя - сбежать, затаиться, скрыться, не видеть ужасов, того, как люди уничтожают себя и продают себе подобных из страха, чтобы выжить: Запихай меня лучше, как шапку, в рукав / Жаркой шубы сибирских степей... // Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы, / Ни кровавых костей в колесе; / Чтоб сияли всю ночь голубые песцы / Мне в своей первобытной красе... Повтор оборота но не волк я по крови своей не случаен. Лирический герой остается человеком, хотя ему грозит гибель от жестокого века-волкодава. К символам века здесь относятся не только прямые оценочные наименования, но и метафорические перифразы, обозначающие разные типов людей (ср.: Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы… ). Образ кровавых костей в колесе олицетворяет судьбу человека, попадающего под карающий меч тоталитарного государства.
В стихотворении «Квартира тиха, как бумага...» (ноябрь 1933 г.) через кажущуюся устроенность быта передана хрупкость бытия человека и его маленького мира -дома. Реальность определяет жизнь лирического героя, она выталкивает его в сферу социального хаоса. Приметы хаоса - атмосфера страха, подневольность, вызывающая протест и несогласие: А стены проклятые тонки, / И некуда больше бежать, / И я, как дурак, на гребёнке / Обязан кому-то играть. // Наглей комсомольской ячейки / И вузовской песни бойчей, / Присевших на школьной скамейке / Учить щебетать палачей. // Пайковые книги читаю, / Пеньковые речи ловлю / И грозное баюшки-баю / Колхозному баю пою. Метафоры усиливают прагматический эффект: щебетать - приобщать палачей к красоте и культуре; пайковые книги -«подразумевается “разрешенная литература”» [Мец, 1997. С. 594]; пеньковые речи -угрожающие речи тех, кто осуществляет казни, либо речи тех, кого на эти казни осудят (ср. намек на веревки). Автор использует прием косвенной референции и эвфеми- зации, возможно, намекая на Сталина (И грозное баюшки-баю / Колхозному баю пою). Хаос растворен в окружающем лирического героя мире, который подавляет его, но в котором он вынужден существовать. Вместо творческого вдохновения приходит ощущение страха и безысходности: … И вместо ключа Ипокрены / Давнишнего страха струя / Ворвётся в халтурные стены / Московского злого жилья.
В целом рассмотренное направление ассоциирования хаос – смута – социальное зло – разрушение личности получает многообразное словесно-образное воплощение, актуализируя различные семантические признаки концепта ХАОС в его социальном проявлении в контексте времени. К признакам, актуализирующим концепт на ассоциативном уровне, относятся: 1) ‘разгул социальной стихии’; 2) ‘угроза смерти’; 3) ‘тревога, страх’; 4) ‘мрак, тьма’; 5) ‘разрушительное начало’, искажающее человеческую сущность. В образном воплощении социального хаоса наблюдается динамика авторского сознания Мандельштама: от выражения гражданской позиции поэта, откровенно высказывающего свое мнение о происходящем, полного стремления к античной гармонии (1910–1918 гг.), – до мнения человека, внутренне свободного, но уже ограниченного рамками существующего государственного строя (1920–1934 гг.), затем – человека, сломленного государством, подавленного, но не сдавшегося.