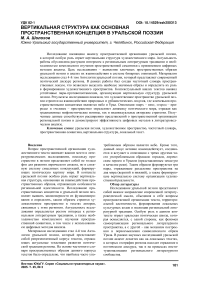Вертикальная структура как основная пространственная концепция в уральской поэзии
Автор: Матвей Александрович Шолохов
Рубрика: Литературоведение. Журналистика
Статья в выпуске: 3 т.25, 2025 года.
Бесплатный доступ
Исследование посвящено анализу пространственной организации уральской поэзии, в которой особую роль играет вертикальная структура художественного мира. Актуальность работы обусловлена растущим интересом к региональным литературным традициям и необходимостью комплексного изучения пространственной семантики с применением цифровых методов анализа. Цель исследования – выявление ключевых пространственных образов уральской поэзии и анализ их взаимодействия в системе бинарных оппозиций. Материалом исследования стал 4-й том Антологии уральской поэзии, который представляет современный поэтический дискурс региона. В рамках работы был создан частотный словарь пространственных лексем, что позволило выделить наиболее значимые образы и определить их роль в формировании художественного пространства. Контекстуальный анализ текстов выявил устойчивые пары-противопоставления, организующие вертикальную структуру уральской поэзии. Результаты исследования показали, что художественное пространство уральской поэзии строится на взаимодействии природных и урбанистических локусов, где ключевыми пространственными концептами являются небо и Урал. Оппозиции «верх – низ», «город – природа» и «человек – пространство» определяют динамику поэтического мира, отражая как традиционные мифопоэтические мотивы, так и индивидуальные авторские стратегии. Полученные данные способствуют расширению представлений о пространственной организации региональной поэзии и демонстрируют эффективность цифровых методов в литературоведческом анализе.
Уральская поэзия, художественное пространство, частотный словарь, пространственная семантика, вертикальная структура, локальный текст
Короткий адрес: https://sciup.org/147251436
IDR: 147251436 | УДК: 82-1 | DOI: 10.14529/ssh250313
Текст научной статьи Вертикальная структура как основная пространственная концепция в уральской поэзии
Вопрос пространственной организации художественного текста занимает важное место в литературоведческих исследованиях, поскольку пространство в поэзии представляет собой не только фон для развития лирического сюжета, но и сложную систему смысловых конструкций, формирующих поэтическую картину мира. В контексте уральской поэзии особую роль играет вертикальная структура, основанная на взаимодействии пространственных образов, отражающих особенности региональной идентичности. Исследование пространственных концептов в уральской поэзии позволяет выявить закономерности их функционирования и определить, каким образом строится художественное пространство в текстах авторов, связанных с этим регионом. Актуальность исследования определяется ростом интереса к региональным литературным традициям, а также необходимостью комплексного изучения пространственной семантики, в том числе с использованием цифровых методов анализа.
Материалом исследования стал 4-й том Антологии уральской поэзии, который представляет собой репрезентативный корпус текстов, отражающих актуальные тенденции развития поэтической традиции региона. На основе частотного словаря пространственных образов данного корпуса текстов было определено, что наиболее часто упо- требляемым образом является небо. Кроме того, данный локус активно взаимодействует, соединяется и вступает в оппозицию с тремя другими часто употребляемыми образами: городом, лирическим героем и Уралом (представленным зачастую в качестве реки). Таким образом формируются три пары, отражающие разделение пространства на два мира (верхний и нижний), а также формирующие вертикальную систему организации художественной реальности.
Обзор литературы
Исследование уральской поэзии представляет собой важное направление современной литературоведческой мысли, объединяя в себе вопросы пространственной организации текста, территориальной идентичности, формирования локальных культурных кодов и эволюции региональной литературной традиции. Особую роль в данном контексте играет уральская поэтическая школа, которая осмысляется, с одной стороны, как феномен самоорганизации регионального литературного пространства, а с другой - как механизм построения и переосмысления символического образа Урала. В рамках научных исследований уральской поэзии акцент делается как на локальных текстах, в которых география региона находит отражение в поэтическом дискурсе, так и на процессах институционализации регионального литературного сообщества.
Исследование городского локуса в уральской поэзии представлено в работе А. Ю. Носковой «Характер освоения городского пространства в современной поэзии Екатеринбурга», где анализируются способы репрезентации Екатеринбурга в поэзии местных авторов. Исследовательница приходит к выводу, что образ города в лирике обладает двойственной природой: он одновременно выступает как индустриальный, функционально осмысленный урбанистический ландшафт и как символическое пространство, наполненное мифологическими смыслами и историческими реминисценциями. Авторы рассматриваемых текстов, среди которых С. Нохрин, О. Дозморов, Р. Тягунов, Б. Рыжий, используют топонимику, аллюзии на культурное наследие города и биографические маркеры, что создает уникальный поэтический образ Екатеринбурга, характеризующийся противоречивым сочетанием реализма и символизма [1, с. 201].
Схожая проблематика затронута О. А. Скри-повой, которая исследует способы включения городских топонимов в текст современной уральской поэзии на примере материалов путевого журнала «По Уралу». В ее работе раскрывается особенность восприятия городского пространства через поэтические нарративы, где топонимы становятся не просто географическими указателями, но и элементами игрового осмысления городской среды. Важно отметить, что поэты, работающие с образом Екатеринбурга, не только фиксируют его материальные реалии, но и стремятся к его художественной трансформации, что позволяет говорить о городе как о знаковом культурном коде, формирующем локальный текст [2, с. 139].
Обобщая анализ локального текста Урала, М. П. Абашева и А. И. Серина проводят контент-анализ поэтических текстов, представленных в «Антологии уральской поэзии». В их исследовании прослеживается рост значимости территориальных номинаций, что свидетельствует об усилении идентификационной функции уральской поэзии. Особое внимание уделяется динамике употребления названий городов Екатеринбург, Челябинск и Пермь, а также их роли в формировании уральской поэтической школы как культурного феномена [3, с. 116].
Важным аспектом осмысления уральской поэзии является ее институциональный статус. В этом контексте работа Ю. С. Подлубновой «Уральская поэтическая школа: фантом или реальность» рассматривает трансформацию концепции уральской поэтической школы. Исследовательница подчеркивает, что изначально замкнутое поэтическое пространство, ориентированное на самодостаточное функционирование в пределах региона, со временем трансформируется, интегрируясь в более широкий русскоязычный литературный контекст. Автор анализирует изменения в структуре школы, вызванные сменой поколений, появлением альтер- нативных поэтических стратегий и конкурирующих литературных проектов, что делает уральскую поэзию не просто региональным, но и общенациональным явлением [4, с. 1849].
Анализируя Челябинск как важный центр уральского поэтического движения, Т. Ф. Семьян и Е. А. Смышляев в работе «Челябинская поэзия как часть уральского поэтического движения» рассматривают особенности локального текста, обращая внимание на преемственность между тремя поколениями челябинских поэтов. Исследователи отмечают, что челябинская поэзия сочетает в себе индустриальные мотивы, связанные с городом-заводом, и экзистенциальные переживания, формирующие самобытный стиль местных авторов [5, с. 30].
Дополняет анализ локальной поэтики исследование Е. А. Смышляева, посвящённое мифологизации Челябинска в поэзии Яниса Грантса. В центре внимания – формирование локального мифа как способа сакрализации пространства и художественного «обживания» города. Автор показывает, что поэтика Грантса основывается на игре с автобиографическим мифом, где реальные топонимы и биографические маркеры трансформируются в элементы мифологического хронотопа. Челябинск в этих текстах предстает как абсурдное и одновременно сакральное пространство: заводские трубы превращаются в ритуальные символы, а город осмысляется как центр внутреннего космоса лирического субъекта. Через реминисценции, эстетизацию хаоса и абсурда, поэт создаёт уникальный образ «города Че» – маргинального, хтонического, но при этом наделённого высокой смысловой нагрузкой. Локус Челябинска у Грантса становится не только географической точкой, но и мифопоэтической системой координат, организующей внутреннюю картину мира [6, с. 97].
Новое измерение уральской поэтической традиции раскрывается в исследовании О. Э. Татау-ровой «Стратегия развития региональной поэзии (на примере уральской поэтической школы)», где анализируется стратегия развития региональной поэзии на примере уральской поэтической школы. Исследователь подчеркивает, что феномен школы можно рассматривать не только как литературное объединение, но и как структурированное культурное поле, существующее благодаря взаимодействию различных субъектов – поэтов, критиков, издателей. О. Э. Татаурова обращает внимание на институциональные механизмы функционирования школы, такие как регулярные антологии, энциклопедии, фестивали и литературные издания, что обеспечивает ее устойчивость в изменяющемся литературном пространстве [7, с. 175].
Вопрос пространственной организации уральской поэзии также изучается с гендерной точки зрения. К. И. Перескокова, И. А. Шорохова и М. В. Маринина в работе «Топос уральской поэзии» выяв- ляют различия в восприятии пространства у поэтов-мужчин и поэтесс, фиксируя, что мужская поэзия чаще ориентирована на динамику и открытые пространства, тогда как женская – на камерные и детализированные локусы [8, с. 21]. В этом же контексте исследование Е. К. Созиной рассматривает поэтическую географию Екатерины Симоновой, где пространство выступает не только как топографический ориентир, но и как средство автобиографической рефлексии [9, с. 64].
Вопрос пространственной организации мира является одной из ключевых тем в современной гуманитарной науке. Одним из центральных аспектов пространственного моделирования выступает концепция вертикального измерения, репрезентирующего мироздание как многоуровневую структуру, включающую оппозиции «верх – низ», «небо – земля», «рай – ад», «земное – небесное» и другие бинарные категории. В исследовательской традиции данный подход широко рассматривается через призму культурной семиотики, мифологии, лингвистики и литературоведения, что позволяет выявить фундаментальные механизмы осмысления пространства в различных национальных традициях.
В рамках пространственной модели мира параметр вертикального измерения рассматривается как базовый, что подтверждается исследованием Ю. Л. Дмитриевой «Горизонтальное / вертикальное измерение пространства как базовый параметр пространственной модели мира». Автор акцентирует внимание на бинарных оппозициях, через которые репрезентируется вертикальный вектор восприятия реальности, таких как «верх – низ», «небо – земля», «земля – подземное царство». В своем анализе исследовательница показывает, что данное измерение связано не только с физическим осмыслением пространства, но и с культурными (в частности, религиозными) представлениями. Например, в славянской традиции вертикальное пространство осмысляется как трехуровневая система: верхний мир (рай, небо, престол божий), средний мир (земное пространство) и нижний мир (подземное царство, потусторонний мир) [10, с. 85].
Эти идеи находят развитие в исследовании «Окружающий мир через призму вертикального видения пространства в представлениях монгольских народов» М. М. Содномпиловой, которая анализирует представления о вертикальном видении пространства у монгольских народов. Исследовательница обращает внимание на традиционное представление о трехуровневой модели мира, где небесная сфера ассоциируется с божественным началом, а земная и подземная – с бытием человека и потусторонним миром. В поэтической традиции народов Центральной Азии вертикальное пространство играет особую роль, фиксируя границы сакрального и профанного [11, с. 31].
В этом же контексте важно рассмотреть исследование Г. Ч. Дондуковой «Вертикальная карта мира: небесные топонимы в поэзии Баира Дугаро-ва», в котором анализируется концепция «вертикальной карты мира» в поэзии Баира Дугарова. Автор доказывает, что в стихах Дугарова отражается традиционное миропонимание бурят, для которых мир не является плоской структурой, а воспринимается в вертикальных категориях. Особое внимание уделяется небесным топонимам, которые поэт использует в своих текстах наравне с названиями земных объектов – рек, гор, городов. Это подтверждает гипотезу о том, что пространственная модель мира у бурят включает не только земные, но и космические координаты, создавая многослойную систему, включающую небо как активный элемент миропорядка [12, с. 94].
На структурные механизмы построения вертикальных отношений в художественном тексте обращает внимание Л. Н. Гиоева в работе «Антитеза и ее роль в линейных и вертикальных структурах художественного текста». Автор определяет, что вертикальные оппозиции, такие как «небо – земля», «высота – низина», «подъем – падение», становятся основными композиционными элементами, формирующими пространственное движение сюжета и раскрывающими ключевые мировоззренческие коллизии текста [13, с. 132].
Исследование И. М. Жуковой посвящено анализу художественной семантики пространственных и временных образов в русской поэзии XIX– XX веков. В своей монографии «Образы пространства и времени в русской поэзии XIX–XX веков» автор рассматривает эволюцию хронотопа, выявляя его ключевые изменения от классической поэзии к модернистской и постмодернистской традиции [14, с. 18–96].
И. М. Жукова подчеркивает, что в XIX веке вертикальная структура пространства формировалась в рамках бинарных оппозиций «высокое – низкое», «небесное – земное», где высота символизировала духовное восхождение, божественное начало, а низина ассоциировалась с материальностью, страданием и падением. Однако в XX веке традиционная система усложняется: поэты начинают использовать вертикальное измерение не только как метафору духовного роста, но и как способ осмысления внутреннего состояния субъекта. В текстах модернистов вертикальное пространство оказывается динамичным, включающим множество направлений и пересечений.
Интересным аспектом исследования является рассмотрение взаимодействия горизонтального и вертикального измерений в лирическом сюжете. И. М. Жукова демонстрирует, что в традиционной русской поэзии XIX века движение в вертикальном измерении часто определяет общий смысл текста: подъем связан с преодолением, а падение – с духовным кризисом. В XX веке наблюдается тенденция к размытию границ между этими категориями, что особенно характерно для лирики Серебряного века и авангарда. Например, в текстах символистов высота может ассоциироваться не только с сакральностью, но и с иллюзорностью, тогда как падение – с поиском подлинного бытия.
И. М. Жукова также выделяет особую роль временного измерения в вертикальной структуре поэтического пространства. В отличие от прозы, где хронотоп подчинен линейному развитию, в поэзии вертикальные движения часто связаны с разрывами, скачками, символическим повторением сюжетов. Это приводит к тому, что вертикаль оказывается не только пространственной, но и временной категорией, что особенно проявляется в поэзии конца XX века, включая рок-лирику.
Важное место в изучении вертикальной структуры пространства в русской поэзии занимает работа Ю. В. Казарина, посвященная анализу уральской поэтической школы. В сборнике портретных очерков о литературных деятелях региона «Поэты Урала» Ю. В. Казарин подробно исследует хронотоп уральской поэзии, выделяя его уникальные особенности [15, с. 392–436].
По мнению исследователя, уральская поэтическая традиция характеризуется индустриальной вертикалью, выраженной в архитектурных и природных элементах (заводы, шахты, горные массивы), и духовной вертикалью, связанной с экзистенциальным поиском поэтов. В отличие от традиционной русской поэзии, где высота часто ассоциируется с сакральным пространством, у уральских авторов она приобретает более амбивалентный характер. Например, в стихах Бориса Рыжего, Алексея Решетова, Сергея Нохрина вертикальная динамика отражает не столько восхождение, сколько борьбу между возможностью выхода за пределы индустриальной среды и неизбежным возвращением в нее.
Ю. В. Казарин вводит концепцию «внутреннего вертикального хронотопа», согласно которой движение вверх и вниз в уральской поэзии является не столько физическим, сколько внутренним процессом. Он демонстрирует, что восхождение может символизировать не только стремление к духовному освобождению, но и невозможность его достижения, так как герои уральской поэзии часто оказываются в замкнутом пространстве, где движение вверх неизменно сопровождается падением.
Кроме того, Ю. В. Казарин отмечает, что уральская поэзия активно использует антропо-морфизацию пространства, где высота и низина приобретают личностные характеристики. Например, заводские трубы и горные пики в поэзии уральских авторов не просто элементы пейзажа, а символы преодоления и сопротивления. В этом смысле вертикальная концепция уральского пространства формирует экзистенциальный хронотоп, в котором природная и индустриальная среда становятся неотъемлемыми элементами самоопределения лирического субъекта.
Методы исследования
Исследование пространственной концепции в уральской поэзии опирается на совмещение цифровых и традиционных литературоведческих методов, каждый из которых имеет обоснование в современной гуманитарной науке.
Первый этап анализа реализуется в рамках цифрового литературоведения, ориентированного на количественную обработку текста. Основным инструментом стал метод составления частотного словаря, теоретически обоснованный в трудах З. А. Штейнфельдт [16, с. 5–20] и М. Л. Гаспарова [17, с. 25–36]. В отличие от традиционных методов, цифровой анализ позволяет выявлять статистически значимые доминанты, моделировать художественный мир на уровне всего корпуса и верифицировать структурные особенности регионального поэтического языка.
Однако количественные данные требуют контекстуального осмысления. В связи с этим применяется контекстуальный анализ, восходящий к работам Б. М. Эйхенбаума [18, с. 135–157] и В. В. Виноградова [19, с. 45–60]. Он позволяет проследить, как ключевые образы функционируют в поэтической ткани: в каких семантических и эмоциональных регистрах они реализуются и как соотносятся с субъектной позицией.
Для выявления устойчивых структур используется сравнительный метод, обоснованный в работах А. И. Веселовского [20, с. 12–35] и Д. С. Лихачёва [21, с. 22–40]. Сопоставление поэтических текстов позволяет зафиксировать типологические оппозиции, прежде всего вертикального характера, и их соотнесённость с лирическим субъектом и хронотопом.
Семиотический анализ, основанный на трудах Ю. М. Лотмана [22, с. 22–40] и В. Н. Топорова [23, с. 5–32], рассматривает художественное пространство как знаковую систему, организованную по законам бинарных противопоставлений и символических иерархий. Пространственные образы в этой парадигме выполняют культурно-смысловую функцию.
Наконец, концептуальный метод, опирающийся на исследования Е. С. Кубряковой [24, с. 45–70] и Дж. Лакоффа [25, с. 3–30], направлен на выявление устойчивых пространственных концептов, таких как «небо», «город», «Урал», и анализ их когнитивной нагрузки. Концепты рассматриваются как ментальные структуры, определяющие поэтическое моделирование реальности и формирующие региональную идентичность.
Результаты и дискуссия
Вопрос вертикальной организации пространства уральской поэзии поднимает в своих работах В. В. Абашева. В работе «Литература и география:
Урал в геопоэтике России» исследователь опирается на понятие теллуризма, под которым понимается специфическое восприятие пространства в уральской литературе. В отличие от центральнорусской традиции, ориентированной на горизонтальное движение по равнинам, уральская проза формирует направление вниз, в глубины земли, что особенно характерно для прозы. В. В. Абашев указывает, что в уральской литературе «чувство земных глубин» [26, с. 146] объединяет ее локальные варианты – пермский, екатеринбургский и челябинский, каждый из которых характеризуется особым оттенком теллуризма.
Однако в уральской поэзии, в отличие от прозы, наблюдается обратная тенденция: если проза ориентирована на нисходящее движение, то в поэзии доминирует вектор восхождения, обращение к небу, о чем свидетельствует составленный нами частотный словарь пространственных образов 4 тома «Антологии уральской поэзии». Уральская литература демонстрирует двунаправленность вертикального измерения: нисходящий вектор шахт, рудников и подземных глубин в прозе и восходящий вектор воздуха, высот и полета в поэзии. Эта особенность не была сформулирована В. В. Абашевым как самостоятельный концепт, однако его исследования позволяют выявить различия между поэтической и прозаической моделями вертикального пространства, что, тем не менее, подтверждает наличие в уральской литературе вертикальной концепции организация пространства.
Составленный на основе корпуса текстов 4 тома «Антологии уральской поэзии» частотный словарь пространственных образов позволил определить несколько ключевых локусов и топосов, контекстное взаимодействие которых легло в основу данного исследования. Самым часто употребляемым из пространственных образов оказалось небо (221 употребление), за ним шли вода (217), дом (144) и город (117). Вода в контексте корпуса текстов наиболее часто употреблялась в контексте природных образов, чаще всего – реки Урал. Дом и город представляют собой объекты одного пространства, урбанистического (образ дома, как правило, выступает в контексте не конкретного здания, а места, где живет лирический субъект, чаще всего – это квартира). Кроме того, образ неба во многих текстах вступает во взаимодействие с лирическим героем. Такой анализ позволил сделать вывод о формировании трех пар, построенных по принципу оппозиции «верх – низ» и сформировавших концептуальную основу организации пространства в уральской поэзии: небо и город, небо и Урал, небо и лирический герой. Каждую из пар подробнее рассмотрим далее.
Образ неба в уральской поэзии имеет двойственную характеристику: с одной стороны, оно является символом природного, возвышенного и вечного, а с другой – вступает в конфликт с го- родским пространством. Город, в свою очередь, представлен как искусственная среда, чуждая человеку и разрушающая связь с природой. Эти две категории – небо и город – формируют ключевое вертикальное противостояние: город словно пытается «вторгнуться» в небо, но остается ограниченным, замкнутым пространством.
В отличие от природного пространства, где небо воспринимается как открытое и бесконечное, в городе оно становится чем-то недосягаемым. Оно словно существует отдельно, наблюдая за городскими улицами, но не взаимодействуя с ними. Пример этого можно увидеть в строках Ильи Будницкого: «И небо – смесь молчанья и свинца». Это не радостное, открытое небо, а тяжелая, безмолвная масса, похожая на свинец. Такой образ подчеркивает разрыв между человеком и природным миром: город отрезает небо, превращая его в серую, глухую преграду. Другой аспект этого восприятия выражен у Ирины Аргутиной: «А в небе тают облака, // и в промежутках // зияет синяя тоска – // и сердцу жутко». Здесь небо выступает как зеркало внутренних переживаний героя, отражая тоску и одиночество. Оно по-прежнему недостижимо, но теперь уже не как физическая преграда, а как эмоциональный и духовный разрыв.
Хотя в большинстве случаев небо и город противопоставляются, существуют примеры, когда они могут взаимодействовать. В этих случаях небо «вписывается» в городское пространство и даже окрашивает его в позитивные тона. Так, у Владислава Семенцула город приобретает особое, теплое звучание, когда взаимодействует с небом: «Облака вылетали из труб // Свет над городом небо белил». Здесь дымовые трубы, которые ранее изображались как разрушительный элемент, теперь становятся частью небесного пространства. Свет, идущий от неба, как будто очищает город, соединяя его с природной стихией. В таких моментах небо перестает быть исключительно чуждым и враждебным, а становится частью урбанистического мира.
В большинстве текстов небо показано как пространство, которому город мешает: трубы и дымы «вторгаются» в него, делая его чужим и холодным. Однако в некоторых случаях небо и город могут находить точки соприкосновения, когда городской ландшафт принимает природные черты. Эта концепция подчеркивает центральный конфликт уральской поэзии: противопоставление индустриального мира и естественной природы, в котором небо выступает как символ недостижимой свободы, а город – как пространство, ограничивающее и искажающее его сущность.
Образ неба в уральской поэзии тесно связан с внутренним миром лирического героя. Оно становится символом свободы, вечности, недостижимости или отражением душевного состояния героя. В зависимости от контекста небо может восприни- маться как равнодушный наблюдатель, вдохновляющий идеал или отражение внутренней тоски.
Часто небо в уральской поэзии связано с мечтой, желанием вырваться из замкнутого пространства. Лирический герой смотрит на него как на символ свободы, противопоставляя земным ограничениям. Этот мотив особенно заметен в текстах, где герой находится в городе, чувствуя себя запертым: «О городок! … // Едва пространства. Потому нам мало // В нем воздуха. И времени» (Михаил Куимов). В таких стихах небо становится тем, к чему хочется стремиться, но что остается недостижимым. Оно символизирует выход за пределы повседневности, но герой не может его достичь.
Также небо часто изображается не просто как природное явление, а как зеркало душевного состояния героя. Оно меняется в зависимости от его эмоций: становится холодным, когда герой чувствует одиночество, или бездонным и светлым, когда герой испытывает вдохновение. Пример можно увидеть в стихотворении Ирины Аргути-ной: «А в небе тают облака, и в промежутках зияет синяя тоска – и сердцу жутко». Здесь небо не просто описывается визуально, а приобретает эмоциональное значение. «Синяя тоска» в облаках становится проекцией внутренних переживаний героя. Оно не просто существует само по себе, а активно взаимодействует с его чувствами, усиливая тревожное состояние.
В противоположность холодному и равнодушному небу в некоторых текстах оно становится символом возвышенного и недосягаемого. В таких случаях герой смотрит на небо с восхищением, видя в нем бесконечность и простор. Пример этого можно увидеть у Александра Ерофеева: «бездонное небо – разглядывать над головою». Здесь небо воспринимается как нечто захватывающее, вызывающее желание наблюдать, созерцать. В отличие от случаев, когда оно нависает над героем тяжестью, в этом контексте оно освобождает, открывает перед ним новые горизонты.
Еще одна сторона образа – представление неба как высшей силы, которая смотрит на героя, но не вмешивается в его жизнь. В таких текстах небо становится чем-то недосягаемым, вечно присутствующим, но не принимающим участия в судьбе человека. Пример можно найти в стихотворении Ильи Будницкого: «И небо – смесь молчанья и свинца». Это не просто описание внешнего вида неба, но и выражение его характера: оно молчит, оно тяжелое, оно безразлично. Лирический герой чувствует себя одиноким, потому что даже небо не проявляет к нему интереса.
Часто небо в уральской поэзии связано с мечтой, желанием вырваться из замкнутого пространства. Лирический герой смотрит на него как на символ свободы, противопоставляя его земным ограничениям. Этот мотив особенно заметен в текстах, где герой находится в городе, чувствуя себя запертым. В таких стихах небо становится тем, к чему хочется стремиться, но что остается недостижимым. Оно символизирует выход за пределы повседневности, но герой не может его достичь.
Эти характеристики формируют сложное взаимодействие между героем и небом, создавая уникальное вертикальное пространство уральской поэзии. Небо становится не просто частью пейзажа, а важным элементом внутреннего мира героя, усиливая его переживания и создавая ощущение глубины и масштабности пространства.
Пара «Урал и небо» в уральской поэзии формирует ключевую вертикальную ось, объединяющую верхний (небо) и нижний (земля, река Урал) миры. Эта связь не только описывает географическое пространство, но и приобретает глубокие философские и символические значения. Урал, представленный в виде гор, земли или, чаще всего, реки, всегда тяготеет к небу, вступая с ним в диалог. В свою очередь, небо отражает состояние природы, города и лирического героя, выступая в роли «отражения», божественного наблюдателя.
Урал в уральской поэзии часто становится персонифицированным. Это не просто географический объект, а самостоятельный персонаж, который взаимодействует с окружающим миром. Пример этого видения можно найти в стихотворении Андрея Санникова: «Страна вокруг – как шиферная кровля // панельной молодой пятиэтажки, // стоит Урал и курит наверху». Здесь Урал представлен как человек или даже божество, которое стоит над всем миром и словно задумчиво «курит», наблюдая за тем, что происходит внизу. Это усиливает идею его монументальности и незыблемости. В другом тексте Санникова Урал изображается сидящим на берегу: «Урал один сидит на берегу». Здесь он предстает не просто как часть природного ландшафта, а как фигура, обладающая сознанием и эмоциями. Это подчеркивает его важность в системе уральского поэтического пространства.
Связь Урала с небом наиболее очевидна в текстах, где он представлен в виде реки. Вода становится посредником между землей и небесами, создавая зеркальное отражение, как в стихотворении Елены Оболикшты: «Смонтировать молчание ветвей // и лодку – вот такую, но длинней – // я забываю, только небо – ближе. // Урал лежит с рекою ниже ног». В этой цитате отразилась идея, что река и небо не просто существуют рядом, но и сливаются друг с другом. Урал, будучи рекой, физически находится внизу, но его поверхность отражает небо, тем самым объединяя два пространства. Другая важная деталь – Урал всегда связан с водой, а вода в уральской поэзии символизирует очищение, движение и переход между мирами. Таким образом, река Урал становится связующим звеном между землей и небом.
Если в контексте города небо часто изображается как холодное, отстраненное или даже порабощенное индустриальными трубами, то в природном пространстве оно предстает как гармоничное и родное. Пример можно увидеть в вышеупомянутых строках Елены Оболикшты: «Урал лежит с рекою ниже ног, // жонглируя трамваями как бог, // тяжелою рукой сминая крыши». Здесь Урал представлен не только как географический объект, но и как сила, которая способна взаимодействовать с человеческим миром. При этом он одновременно остается частью природы, его положение между землей и небом делает его ключевой точкой в вертикальном пространстве уральской поэзии. Еще один пример можно найти в стихотворениях, где небо и Урал сливаются в едином природном пейзаже: «бездонное небо – разглядывать над головою». Когда герой смотрит на небо в природном контексте, оно представляется ему бесконечным и величественным.
В некоторых текстах Урал и небо воспринимаются как две стороны единого божественного начала. Урал – это бог земли, реки и гор, а небо – бог воздуха, ветра и пространства. Вместе они формируют единую вертикальную систему, которая охватывает все уровни бытия. Пример: «Урал к тебе протягивает сырость // и пьет с лица изломанной реки». Здесь Урал словно живой организм, взаимодействующий с небом и водой. Он поднимается вверх, словно пытается достичь неба, но при этом остается привязанным к земле. В другом стихотворении Елены Оболикшты Урал прямо сравнивается с богом: «жонглируя трамваями как бог». Это подчеркивает его величие и способность влиять на окружающее пространство.
Выводы
Вертикальная концепция пространства в уральской поэзии формируется через взаимодействие ключевых пространственных образов: неба, Урала, города и лирического героя. Эта вертикаль строится на контрастах верхнего и нижнего миров, гармонии природы и конфликта с городом, а также на духовном поиске лирического субъекта.
В уральской поэзии вертикаль объединяет несколько уровней: верхний мир – небо как символ свободы, божественного, наблюдателя или отражения внутреннего состояния героя; средний уровень – человек, который осмысляет свое место между небом и землей, пытаясь найти равновесие; нижний мир – Урал (как река, горы, земля), символ корней, устойчивости, но также и равнодушия. Эти элементы создают систему, в которой человек оказывается между двумя мирами, взаимодействуя и с землей, и с небом.
Вертикальная структура уральской поэзии наиболее полно раскрывается через три ключевые пары: «небо и Урал» – единство природных сил, где Урал, как земля и река, соединяет верх и низ, превращаясь в медиатор между мирами, и предстает как живой, но безразличный наблюдатель, похожий на божество, что усиливает вертикальную ось пространства; «небо и город» – конфликт природы и урбанистического мира, где город воспринимается как искусственное пространство, вторгающееся в небо через трубы и дым, а небо, вместо свободы, становится «распятым» над городом, символизируя его подавляющее воздействие; «небо и лирический герой» – поиск смысла и духовного равновесия, где небо становится отражением внутреннего состояния героя: оно либо вдохновляет, либо давит тяжестью, в городе оно кажется недостижимым, но в природном контексте выступает как символ гармонии. Эти три пары образуют триединую модель уральского пространства: природа (Урал), урбанистический хаос (город), личностный поиск (лирический герой).
Однако вертикальная концепция в уральской поэзии основана не только на противопоставлениях, но и на единстве противоположностей: Урал и небо одновременно далеки и близки – река Урал отражает небо, соединяя их в одно целое; город чужд природе, но конкретные топонимы вызывают теплые эмоции – индустриальный мир отторгается, но конкретные города воспринимаются как родные; дом противопоставляется городу, но при этом объединяет лирического героя с пространством – он может быть уютным или тесным, чужим или своим. Таким образом, вертикальная ось в уральской поэзии – это не только противопоставление, но и попытка соединить эти пространства, найти в них баланс.
Вертикальная концепция пространства в уральской поэзии – это не просто описание географического ландшафта, а метафора восприятия жизни. Она отражает поиск духовного смысла – стремление героя к небу, божественному, идеальному; связь человека с землей – корни, история, неизменность природы (Урал как вечный наблюдатель); конфликт с цивилизацией – город как преграда между человеком и природной гармонией. В результате вертикаль становится способом выразить внутреннее противоречие человека: стремление к высшему и связь с реальностью, желание свободы и осознание своей укорененности.