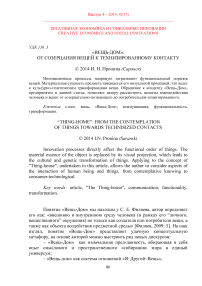«Вещь-дом»: от созерцания вещей к технизированному контакту
Автор: Пронина Ирина Николаевна
Журнал: Креативная экономика и социальные инновации @cesi-journal
Рубрика: Предметный Мир как антропологическая проекция
Статья в выпуске: 2 (7) т.4, 2014 года.
Бесплатный доступ
Инновационные процессы напрямую затрагивают функциональный порядок вещей. Материальная сущность предмета замещается его визуальной проекцией, что ведет к культурно-генетическим трансформациям вещи. Обращение к концепту «Вещь-Дом», предпринятое в данной статье, позволяет автору рассмотреть аспекты взаимодействия человека и вещи: от созерцательно-познающего до потребительски-технизированного.
Вещь, "вещь-дом", коммуникация, функциональность, трансформация
Короткий адрес: https://sciup.org/14238988
IDR: 14238988 | УДК: 130.
Текст научной статьи «Вещь-дом»: от созерцания вещей к технизированному контакту
Понятие «Вещь-Дом» мы находим у С. Е. Филяева, автор определяет его как: «внешнюю и внутреннюю среду человека (в рамках его “личного, вещественного” окружения) не только как создателя или потребителя вещи, а также как объекта воздействия предметной среды» [Филяев, 2009: 5]. На наш взгляд, понятие «Вещь-Дом» представляет удачную концептуальную метафору, на основе которой можно выстроить ряд новых дискурсов:
-
– «Вещь-Дом» как изначальная пред-данность, вбирающая в себя опыт смыслового и пространственного «собирания» мира в единый универсум;
-
– «Вещь-дом» как система отношений «Я–Другой–Вещь»,
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS
-
– «Вещь-дом» как генетическая проекция культуры.
«Вещь-Дом» как изначальная пред-данность, вбирающая в себя опыт смыслового и пространственного «собирания» мира в единый универсум. Феномен дома – это прибежище внутреннего. Как пишет О. Шпенглер: «первоначальная форма дома всецело возрастает из органического чувства, она обладает такой же внутренней необходимостью, как раковина моллюска, как пчелиный улей, как птичьи гнезда…дом суть скорлупы жизни» [Шпенглер, 2009: 430]. Обрамляя жизненное пространство человека, вещь, пребывает в бытии внутреннего, ибо дом с «теплотой принимает и объемлет существо» [Башляр, 2002: 1]. Поэтому «Вещь-Дом» характеризуется своей органической «прикрепленностью», «приращенностью» к конкретному пространству. Заключая в себе опыт пространственности человека, «Вещь-Дом» пребывает в границах игры божественного и смертного, земного и небесного, во взаимной принадлежности того, что определяется М. Хайдегером как мир «четверицы». Техногенному миру цивилизации, именуемого «поставом», философ противопоставляет мир силы и могущества земли, почвы, бытия, открытости, истины. «Веществуя, вещь дает пребыть собранию четверых – земле и небу, божествам и смертным – в одно-сложности их собою самой единой четверицы» [Хайдеггер, 2007: 448]. Собирая четверых, вещь приводит их к взаимной близости: «далекое хранимо близостью». Через вещественность одного мыслить три остальных – это и есть близость, достигнутая отдалением. Так, чаша собирает в себе силу земли (источник, вода, лоза) и энергию неба (дождь). Подношение чаши позволяет быть земле и небу, божествам и смертным. «Обитание щадит четверицу, привнося ее сущность в вещи. Но вещи, со своей стороны, хранят четверицу лишь тогда, когда они сами признаются как вещи в их сущности. Как это происходит? Благодаря тому, что смертные лелеют те вещи, которые способны расти, и созидают те вещи, которые расти не способны» [Хайдеггер, 2008: 181]. Вещь множеством переходов связана со всеми частями мира, между человеком и миром, между человеком и Богом, потому всякая вещь по природе своей неисчерпаема и бесконечна.
Так, «Вещь-Дом» в традиционном понимании органически связана с природой, не оторвана от результатов собственного труда. Вещи представляют результат адаптирования природы к человеческим потребностям, причем сама возможность получить этот результат связана не с насилием над природой, а скорее с дарующими ее аспектами: «Земледельческий труд преображает все моменты быта, лишает их частного, чисто потребительского, мелкого характера, делает их событиями жизни. Так, едят продукт, созданный собственным трудом; он связан с образами производственного процесса, в нем – в этом продукте – реально пребывает
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS солнце, земля, дождь» [Бахтин, 1986: 260]. Вещи традиционного дома – суть дары мира.
«Вещь-дом» как система отношений «Я–Другой–Вещь». Самозамыкаясь в границах строго очерченной локальности, «Вещь-Дом» являет человеку мир, очерчивая смысловое и содержательное наполнение его жизни. Отношения с вещами есть не что иное, как определенный способ бытия в мире, «Вещь-Дом» преподносит нам урок ценностного отношения к миру «не быть в мире и иметь в нем значение, а быть с миром, наблюдать и снова и снова переживать его» [Бахтин 2000: 181]. «Вещь-Дом» впервые приобщает нас к опыту Другого, к переживанию вещи как Другого. Это вещь с длительным опытом активной принадлежности своему владельцу, с живой памятью множества касаний рук человека. Вещь должна быть «оживлена, расцвечена, определена употреблением…Именно я есть касание этой чашки, этой безделушки» [Сартр, 2009: 872]. «Вещь-Дом» всегда находится «под рукой», в ближайшем окружении, в привычном и незаметном применении. Такой способ бытия вещи Хайдеггер в «Бытии и времени» именует «подручностью». Основными характеристиками подручного философ считает пригодность для того или иного действия, «незаметность», «нетематичность», нарушение которой приводит к трансформации «способа бытия». Подручность коренится в заботе, в употреблении, в изготовлении вещи. Использование изнашивает и разрушает вещь, однако именно применимость позволяет вещи «сбыться во владении», занять именно ей отведенное место в домашнем пространстве и пространстве человеческой жизни. Однако «отдаваясь нам во владение, вещи учат нас не владеть» [Эпштейн]. Владение в данном контексте рассматривается как непрерывное творение, оно изнашивает, разрушает вещь, однако владение, по мнению Сартра, есть «растворение в себе»: «в той степени, в какой я являюсь себе как созидающий предметы посредством единственного отношения присвоения , эти предметы оказываются мною . Вечное перо и трубка, одежда, письменный стол, дом – это я сам» [Сартр, 2009: 871].
«Вещь-дом» как генетическая проекция культуры. Дом дает возможность сосуществования различным поколениям вещей, это пространство, где переплетены разновременные смыслы и желания настоящего и будущего, где прошлое включается в композицию настоящего. «Энергии вещей втекают в другие вещи, и каждая живет во всех, и все в каждой» [Флоренский, 1990: 93]. Такая взаимосвязь вещей идет не вширь, а вглубь, когда за внешними символическими формами скрываются генетические коды культуры. Таким образом, «Вещь-Дом» обладает своей очевидной генетикой.
Дом – это совокупность вещей, которые дают человеку основания или иллюзии стабильности. Именно через вещное наполнение наследуемых и 88
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS сберегаемых вещей человек обретает свою «укорененность» в бытии. Отсюда сбережение, сохранение и накопление вещей, составляющих «трогательную собственность» человеческой жизни, рассматривается как признак стабильности, благополучия. Как пишет Н. Ф. Федоров, «хранение – закон коренной, предшествующий человеку» [Федоров, 1982: 376]. Через собственность, через владение вещами открывается смысл бытия, происходит осознание своего «Я». «Мягкий свет, люди сидят по домам, они, конечно, тоже зажгли лампы…для них все иначе. Они состарились по-другому. Они живут среди завещенного добра, среди подарков, и каждый предмет их обстановки – воспоминание. Каминные часы, медали, портреты, ракушки, пресс-папье, ширмы, шали. Их шкафы битком набиты бутылками, отрезами, старой одеждой, газетами – они сохранили все. Прошлое – это роскошь собственника» [Сартр, 2010: 78]. Собственность – это тот фундамент, та культурная почва, которая «нарастает» поколениями. Наличие собственности задает критерий отношения к труду, к человеческой деятельности, к миру в целом. Собственность выступает как некое духовное начало, имеющее идеальное продолжение личности в вещах. И, наоборот, бездомье отрывает вещь от человека, лишает его родовых корней. В своих воспоминаниях М. А. Осоргин пишет: «Есть счастливцы, прожившие весь свой век в одном доме, в одной квартире, все в тех же комнатах, стены которых дышат их дыханием и привычно отражают звуки их слов; их письменные столы, регистраторы, ящики их комодов, кладовые наполнены прекрасной рухлядью вещественных доказательств их быта…Со мной нет никаких вещей; впрочем, у меня вообще ничего нет, потому что мое прошлое зачеркнуто» [Осоргин, 1989: 88-89]. Отсутствие собственности, неукорененность, лишает человека индивидуально-вещной идентификации, воспринимается как знак отсутствия прошлого. Прошлое человека заключено в вещах, в них опредмечиваются и хранятся чувства, переживания, события. Обладание вещами дает способ осмысленного и укорененного существования, иллюзию непрерывности, так как наследование позволяет совершить прорыв в будущее, от одной внутренней жизни к другой, позволяет преодолеть конечность собственного бытия. Преодолевая конечность собственного бытия, человек вступает в неизбывность вечности, свершая свою уникальную судьбу в перспективе единой судьбы человечества.
В современной культуре концепт «Вещь-Дом» претерпевает существенные трансформации. Город вынужденно модифицирует дом, видоизменяет его структурно и функционально. Редукция дома в квартиру преобразовывает традиционную семантику дома, утрачивается его значение как оплота семейной истории, духовной общности, дом перестает быть крепостью и превращается в среду обитания. Вместе с этим происходит 89
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS деформация вещно-предметного мира. Современный дом «захвачен» стихией обновления, здесь вещь превращается в дизайнерский продукт, что ведет к обессмысливанию, к потери духовной сущности вещи. Феномен дизайна радикально отличается от понятий «природы» и «среды» ХIХ века, если данные понятия ссылались на «физические, биологические (субстанциальный, наследственный и видовой детерминизм) или социокультурные («среда») законы, то дизайн изначально является сетью сообщений и знаков, поэтому его законами являются законы коммуникации» [Бодрийяр, 1995: 252]. «Поэтический дискурс» традиционного жилища, где господствовало незримое согласие «перекликающихся между собой предметов», заменяется, по мнению Ж. Бодрийяра, их простой комбинаторикой. Возникает новый тип обитателя дома – «человек расстановки», который по утверждению философа не является собственником или пользователем жилища, а выступает как активный устроитель среды [Бодрийяр, 1995: 29-31]. Стратегия пространственных трансформаций, затрагивающих жилище, иронично изображается Ж. Переком в книге «Просто пространства: дневник пользователя»: «…в образцовом раскладе сегодняшних квартир функциональность функционирует согласно однозначной, запрограммированной и ежесуточной процедуре: ежедневные действия соответствуют временным отрезкам, а каждый временной отрезок соответствует одному из помещений квартиры» [Перек, 2012: 41]. Таким образом, современный человек нацелен не на «проживание» вещей, а установление связи с ними. Отношения с вещью можно уподобить чтению с экрана, когда прикосновение к книге заменяется «скольжением взгляда», который лишает вещь возможности дотронуться до нее, осмыслить, обжить. В связи с этим вспоминается мысль Бодрийяра о радикальном изменении парадигмы чувствительности, где «осязаемость не является более органически присущей прикосновению, она просто означает эпидермическую близость глаза и образа» [Бодрийяр, 2012: 81].
Если традиционный дом несет в себе память рода и позволяет сосуществовать различным поколениям вещей, то современное функциональное пространство является вместилищем «временных» вещей. Вслед за «временными» вещами приходят и «временные» жилища. Как отмечает З. Бауман, «мы являемся свидетелями реванша кочевого образа жизни над принципом территориальности и оседлости», где «могущественные люди наших дней избегают долговечности и лелеют мимолетность, в то время как находящиеся у основания социальной пирамиды, несмотря ни на что, изо всех сил отчаянно пытаются продлить существование своего ничтожного и недолговечного имущества» [Бауман, 2008: 20-21]. «Вещь-дом» теряет свою актуальность и переживает кризис, так как привязанность к определенному месту представляется для современного 90
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS человека не столь важной. Современный человек пребывает в отсутствии дома, доминирующими антропологическими типами становятся фигуры фланера, туриста, бродяги, игрока. Данные типажи не являются изобретением современного общества, однако сегодня данные жизненные стратегии находятся в центре общественной жизни. По мнению итальянского философа и политика М. Каччари, «дом приравнен к ничто или сохранен только в качестве руины, воспоминания…На этом основании Субъект получает ''свободу'', он может свободно перемещаться, выполняя свою работу и свое предназначение, состоящее в отделении всего вневременного Бытия-во-времени и сведении всего Бытия ко времени – ко времени собственного перемещения Субъекта» [Каччари, 2008: 200].
Итак, концепт «Вещь-дом» представляет вертикальную форму бытия вещей, четко структурирующую границы мира, вещи и человека. «Вещь-Дом» – это традиция, наследуемая от прошлого, существующая в настоящем и передаваемая в будущее. Современная культура трансформирует и отменяет иерархически-сложившуюся структуру концепта «Вещь-Дом», порождая новый тип взаимоотношений в системе взаимоотношений человека и вещи – на смену духовно-созерцательному отношению приходит «контакт без контакта», суть которого сводится к потребительски-технизированному взаимодействию с вещами.
Список литературы «Вещь-дом»: от созерцания вещей к технизированному контакту
- Бауман З. Текучая современность. СПб: Питер, 2008. 240 с.
- Бахтин М. М. Автор и герой: к философским основам гуманитарных наук. СПб.: Азбука, 2000. 336 с.
- Бахтин М. М. Литературно-критические статьи. М.: Худож. лит., 1986. 543 с.
- Башляр Г. Дом от погреба до чердака//Логос. 2002. № 3. С. 1-26.
- Бодрийяр Ж. К критике политической экономии знака. М.: Библион -Русская книга, 2004. 304 с.
- Бодрийар Ж. Прозрачность зла. 4-е изд. М.: Добросвет, 2012.260 с.
- Бодрийяр Ж. Система вещей. М.: Рудомино, 1995. 177 с.
- Каччари М Эвпалинос или Архитектура//ПроектiП:етайопа1. 2008. № 20.С. 190-207.
- Осоргин М. А. Времена: Автобиографическое повествование. Романы. М.: Современник, 1989. 622 с.
- Перек Ж. Просто пространства: Дневник пользователя. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2012. 152 с.
- Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. Опыт феноменологической онтологии. М.: АСТ Москва, 2009. 925 с.
- Сартр Ж.-П. Тошнота. Рассказы. Пьесы. Слова. М.: АСТ МОСКВА, 2010. 622 с.
- Федоров Н. Ф. Музей, его смысл и назначение. М.: Мысль, 1982. 576 с.
- Филяев С. Е. Полифункциональность образа «Вещь-Дом» как феномен культуры: автореф. дис. кандидата философских наук. Нижний Новгород, 2009.23 с.
- Флоренский П. А. У водораздела мысли. М.: Правда, 1990. Т. 2. 448 с.
- Хайдеггер М. Время и бытие. СПб.: Наука, 2007. 621 с.
- Хайдеггер М Строить обитать мыслить//2008. №2 20. С. 177-189.
- Шпенглер О. Закат Европы. Очерки мировой истории: Гештальт и действительность. М.: Эксмо, 2009. 800 с.
- Эпштейн М. Вещь и слово. О лирическом музее . http://www.booksite.ru/localtxt/epsh/tein/epshtein_m/parad_nov/33.htm (дата обращения 23. 08. 2013)