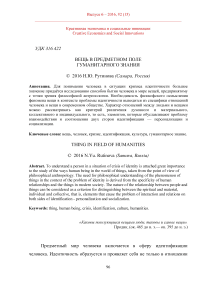Вещь в предметном поле гуманитарного знания
Автор: Рутинова Наталья Юрьевна
Журнал: Креативная экономика и социальные инновации @cesi-journal
Статья в выпуске: 2 (15), 2016 года.
Бесплатный доступ
Для понимания человека в ситуации кризиса идентичности большое значение придаётся исследованию способов бытия человека в мире вещей, предпринятому с точки зрения философской антропологии. Необходимость философского осмысления феномена вещи в контексте проблемы идентичности выводится из специфики отношений человека и вещи в современном обществе. Характер отношений между людьми и вещами можно рассматривать как критерий различения духовного и материального, коллективного и индивидуального, то есть, элементов, которые обуславливают проблему взаимодействия и соотношения двух сторон идентификации - персонализации и социализации.
Вещь, человек, кризис, идентификация, культура, гуманитарное знание
Короткий адрес: https://sciup.org/14239068
IDR: 14239068 | УДК: 316.422
Текст научной статьи Вещь в предметном поле гуманитарного знания
«Каковы пользующиеся вещами люди, таковы и самые вещи».
Продик (ок. 465 до н. э.— ок. 395 до н. э.)
Предметный мир человека включается в сферу идентификации человека. Идентичность образуется и проявляет себя не только в отношении
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations индивида к самому себе, но также и в контексте его отношения к вещи. Вещь при этом является матрицей, которая влияет на образование, формирование способов идентификации. В культуре отношения между человеком и вещью постоянно воспроизводятся как некая константа, однако при этом они всегда вписаны в некий конкретно-исторический контекст. С переходом от одной социокультурной парадигмы к другой принцип взаимодействия мира людей и мира вещей претерпевает значительные изменения.
По мнению В.И. Ионесова «вещь выступает в культуре в качестве материально-артикулированной духовной сущности, за телесной оформленностью которой скрываются намёки, смыслы, образы и императивы экзистенциальных исканий человека. …Вещь предстаёт в культуре как одухотворение и преображение материи, взаимопроникновение духа и плоти. С помощью вещи человек снимает остроту своего родового раскола и отчуждения» [4]. Исследователь определяет вещь как «предмет, ОБРАЗующий узнаваемый облик, опоВЕЩАющий о своём назначении и РЕАлизующий (от лат. realis – вещественный) свои функции для удовлетворения конкретных потребностей человека» [4].
Развитие культуры всегда было направлено на формирование той основы, которая бы обеспечила полное выражение человеческой индивидуальности. Материалы, собранные антропологами и этнографами, позволяют сделать вывод, что отношение человека к вещи изменялось на всём протяжении истории человечества, и при этом зависело от степени, в которой человек осознавал свою самость.
По утверждению Л. Мамфорда, человек обладал главным своим инструментом — «его собственным движимым телом... каждой его частью, а не только сенсомоторными действиями, которые произвели ручные топоры и деревянные копья» [7, c.88]. По мнению специалистов по исторической
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations психологии, в дописьменных культурах размышление имело намного меньшее значение, нежели действие в двигательно-активной форме, связанное с телом. Это ещё одно доказательство того, что вещь возникает в развитие физических характеристик тела, является внешним продолжением собственных качеств человека, которые связаны с удовлетворением телесных потребностей.
Хронологически первый модус рассмотрения вещи – это мифы о происхождении вещей. Первая вещь являла собой аналог представлений об устройстве мира, овеществленное воплощение мифа. Это было характерно для общества, основанного на символическом обмене, где ритуальное предшествует социальному. Сакрализация предметного мира складывается в силу такой специфической особенности первобытного сознания, как синкретизм, позволяющий отождествить природу и человека, органический и неорганический миры (О.М. Фрейденберг).
В идее внутренней аналогии человека — «микрокосма» и мира — «мегакосма», которые состоят из одних элементов и имеют единую структуру, находит в культуре свое наглядное выражение синкретическая слитность с Космосом. Этим тождеством определяется моделирование не только земли, космоса и человека, но также и сферы жилища, одежды и утвари.
Исследователи отмечают еще одну особенность мифопоэтического мышления. Обращение к вещи как к персонажу, её мифопоэтическая актуализация, делала вещь волшебным предметом, воздействующим на социальное поведение и ритуальную практику [12]. Данные особенности обусловлены конкретностью первобытного мышления, отождествляющего себя с вещью. При этом человек отбирает вещь, полагаясь не на свои персональные вкусы, предпочтения или потребности, но, как правило, на
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations нормы групповой культуры, заданные обществом. Такая предметная селекция была полна драматизма и противоречий. Как полагает В.И. Ионесов: «За визуальными образами, казалось бы, застывших человеческих творений, лежит огромный пласт подвижной символической реальности, отображающий экзистенциальную драму нескончаемых притязаний и испытаний человека, культуры и природы» [4].
С.С. Аверинцев писал: «Для язычников бытие принадлежит вещи по праву жеребьевки, достается ей как законная добыча, а потом по таким же твердым законам, безразличным к каждой отдельной вещи и к каждому отдельному лицу, бытие отбирается обратно» [1, c.44]. Это ещё раз говорит не только о связи человека и вещи в архаике, но и об их тождестве. Вещь и человек обладают одним бытием, которое распределено безразличной жеребьевкой Мойры, отводящей им какую-либо часть от всего космоса. Следовательно, тотемистические, фетишистские, анимистические культы — экранизируют отношения человека и природы, неизбежные конфликты и возможные способы примирения.
Тенденция индивидуализации предметного мира, которая определяет характер отношения человека к вещи, формируется лишь во время социального расслоения, устойчивого воспроизводства материальных благ, когда появляются так называемые «лишние» вещи. Со временем образ вещи доводится до «гротескного» космического тела человека, что хорошо просматривается в античности и средневековых культурах [2, c.49].
В этом вопросе представляется весьма важным обращение к историкокультурным традициям. В античности сформировалось личностное отношение к вещному окружению. Это связано, прежде всего, с «космокритериальной» трактовкой человека античности, согласно которой человек есть «мера всех вещей» (Протагор). Сыграла роль и социальное
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations расслоение, когда накопление множества вещей, излишек материальных благ позволили преодолеть слитность с родом. Особую важность имеет суждение И. Канта о том, что первый шаг человека к свободе связан с представлением о «лишних вещах». Лишние вещи впервые обнаружили в человеке нечто «человеческое», соответствующее его особенной, человеческой природе, где есть место не только утилитарному.
Во-вторых, для эллинского мышления было характерно переживание «бытийственности вещей как присущей им красоты» (С.С. Аверинцев). Основным понятием греческой философии, выражавшим скульптурное, пластическое, видимое и телесно-вещественное осмысление мира был «эйдос». «Эллинский» человек принадлежал бытию, воспринимал его, как свой космический дом. Прежде всего, вещь красива, потому, что космична, и, следовательно, упорядочена. Чернофигурная ваза является упорядоченной вселенной, моделью космоса. При этом человек также мыслится прекрасной одухотворенной вещью, возникшей и существующей по таким же законам бытия. Вся вещная среда стремится быть соразмерной человеческому телу и соответствовать ему не с одной лишь прагматической стороны, но также и эстетически. Человек эстетический — это индивидуалист. Такой подход позволял гармонично индивидуализировать среду обитания и внешний облик древних греков. Суть важного открытия античности – в понимании красоты, как самого полного выражения сущности тех или иных вещей, как того свойства, которое заставляет желать ту или иную вещь и восхищаться ею.
Следовательно, в античной традиции просматривается процесс индивидуализации человека, а значит и вещи ему принадлежавшей. Человек овеществляется, и одновременно вещь очеловечивается, как носитель качеств и особенностей своего владельца.
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations
Средневековое мировоззрение представляет человека, как неизменный элемент установленного Божественного порядка. В мире средневековья индивид идентифицировал себя, в первую очередь, со своей ролью в феодальной иерархии, на вершине которой находился Бог. Поскольку средневековый человек не мыслил себя вне Бога, то и вещь он видел, главным образом, в качестве символа присутствия в мире Бога. Здесь вещь и человек обладают «тварностью», продуктом милости Бога. «Каждая вещь и сам человек сотворены, призваны к бытию от небытия, извлечены зовом Бога из темноты ничто и еще сохранили на себе печать ничто» [11, c.44]. Задача средневекового мастера – как можно точнее воспроизвести первообраз в лице Бога. Мастерство определялось степенью приближения к Богу (В.Н. Топоров). В изготовлении вещи в первую очередь ценились добротность и основательность обработки, качество вещи и стремление ремесленника достигнуть высот мастерства. Средневековый ремесленник был причастен к результатам своего труда, проводил всю работу от начала до конца, и потому рукотворная вещь была органически связана со своим создателем.
Согласно положению классической философии о том, что подобное постигается подобным, или, как утверждал средневековый мыслитель Фома Аквинский, «познание происходит через уподобление познающего познаваемой вещи», в процессе познания-творения ремесленник уподоблялся идеальной вещи, которая имела образцовую форму от самого Бога. Умения и знания мастера отпечатывались в изделии. В Средние века представление о сущности вещей, отождествлявшееся с мудростью, сводилось к происхождению вещи. Средневековые тексты, которые были предназначены ремесленникам, одновременно наставляли в духовном плане и содержали практические указания, как можно делать прекрасные вещи. Мудрость ремесленного знания не могла принадлежать кому-то лично, однако в
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations наибольшей степени качества индивидуума выявлялись в коллективе, становясь общими для мастера и его учеников, а затем передавались всем членам данного ремесленного цеха. Индивидуальность мастера могла проявляться в изобретательности, которая была присуща ему при использовании унаследованных навыков при передаче заранее заданного образца. Следовательно, в понимании средневековых мастеров у любой вещи были две стороны. Одна сторона была общей для всех. Согласно ей, автор вещи призван был воплотить божественный замысел, мастер как таковой не являлся самостоятельной единицей. С другой стороны, вещь нельзя было отделить от индивидуальности мастера. Как «каждая вещь неповторима, но устремлена к одному и тому же, образцу, так и один человек отличается от другого, но вместе они стремятся уподобиться оному — Христу» [10, c.36].
В эпоху Возрождения в Европе начинается новый этап исторического процесса индивидуализации человека и трансформации предметного мира. Причиной этого стали первоначальное накопления капитала, промышленная революция и развитие капиталистических отношений. К этому можно добавить и рост числа горожан, стиль жизни которых принципиально отличался от образа жизни сельских жителей средневековья. История впервые поставила перед человеком задачу самоопределения. Характерная для средневековья модель мира начинает меняться, теряя присущее ей традиционное религиозное содержание. Для антропоцентрического мышления Ренессанса характерна абсолютизация личности человека, со всей ее жизненной активностью. При этом материально-телесное начало воспринималось, как универсальное, а ценность тела обосновывалась в контексте идей о человеческой самореализации.
Ренессансный человек отстаивал свою отдельность. Колюччо Салютати писал одному из своих адресатов: «Я — один, Я — не толпа, не народ...
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations гораздо лучше быть единственным, чем множеством. Поистине единица, которую греки называли выразительным словом монада, обладает большим совершенством, чем любое другое число» [3, c.18]. Во всех сферах жизни проявлялась тенденция к индивидуализации, которая детерминировала эстетическое отношение к действительности и радикально изменило отношение человека к предметному миру. Вещь в художественной культуре Ренессанса не просто входит в круг интересов художников, но более того, превращается в самостоятельную тему эстетического любования, лейтмотив произведения и самостоятельный живописный жанр.
В эпоху Просвещения единственным мерилом всего сущего становится мыслящий разум. Но возвышение разума утверждалось, как противовес «неразумной» телесной человеческой природе. По мнению И.С. Кона, в Новое время появилось такое явление, как «табуирование» тела, его жёсткую дисциплину, когда телесное должно было быть подчинено рациональнодуховной сущности человека. Этим было вызвано появление в XVIII веке особого вида одежды – домашнего костюма, а также и всевозможных видов домашней одежды — пижам, шлафроков и пр. [6, c.100]. Это новое понимание тела явилось одним из аспектов более общего процесса персонализации личного пространства и повышения ценности индивидуальности.
Однако гармония взаимоотношений, сложившаяся в системе «человек -вещь» была непродолжительной. В конце восемнадцатого столетия она была осложнена начинающимся научно-техническим прогрессом, который привёл к отчуждению продуктов труда от их создателя и превращению ранее рукотворной вещи в некий «равнодушный» предмет. При этом вещи стандартизируются, что приводит к потере ими культурной ценности и подлинности. Наконец, новое понимание человеческой личности, отрицание
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations традиции, утверждение эксперимента и знания, которое завоёвано личным усилием, привело к образованию нового типа человека: «экономического», «новоевропейского», человека «рыночного» типа по Э. Фромму.
Очевидно связь оценки и восприятия вещей с проблемой культурной идентификации человека. По мнению Э. Фромма, у людей рыночного типа чувство идентичности, связано с их участием в деятельности корпораций, а поскольку социальная структура общества становится всё сложнее и сложнее, то личность самореализуется через совокупность социальных ролей.
Свойственный современному миру кризис личности является кризисом традиционных форм идентичности. Момент рождения новых форм идентичности – это переход от монолога к диалогу, от общества традиционного к посттрадиционному, от неизменного к изменчивому. Предметный мир в современной культуре дробится и капсулизируется, нарушаются привычные связи и формы идентификации человека. На смену однозначного, жестко ограниченного образа, идентифицирующего человека, приходит идентичность незавершенная, «фрагментарная», плюралистическая. Идентичность, как проблема и продукт социального взаимодействия индивида с окружающей средой и предметным миром, была окончательно признана и обстоятельно изучена в европейской традиции (работы Т. Лукмана, У. Джеймса, Р. Мертона, И. Гофмана, Дж.Г. Мида, З. Баумана) [8, c.160].
В глобализующейся культуре человек всё больше создаёт виртуальную среду в своём отношении с миром. Виртуализация и технологизация социокультурного пространства перекраивают традиционные каналы передачи культурного и социального опыта, тем самым изменяя и способы предметной артикуляции культуры, а значит и формы человеческой
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations самореализации. Вещь в виртуальной реальности становится символическим знаком, освобождаясь от своих материальных связей с человеческим телом. Предметный мир всё сильнее утилизируется, превращаясь в имитативный комплекс нашего воображения, довлеющий симулякр.
Список литературы Вещь в предметном поле гуманитарного знания
- Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. -СПб: Азбука-классика, 2004.
- Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. -М.: Искусство, 1972.
- Данилова И.Е. Мир внутри и вне стен: интерьер и пейзаж в европейской живописи XV-XX вв. -М.: 1999.
- Ионесов В.И. Вещи в пространстве культуры: предметы, меняющие мир//Креативная экономика и социальные инновации. -2012.-№ 2 (3).-С. 75-94
- Ионесов В.И. Культура как организованный миропорядок: символические формы и метафоры трансформации//Вестник Челябинского государственного университета. -2014.-№25 (354). -С.7-13.
- Кон И.С. В поисках себя: личность и ее самосознание. -М.: Политиздат, 1981.
- Мамфорд Л. Техника и природа человека//Новая технократическая волна на Западе/Сост. П.С. Гуревич. -М.: Прогресс, 1986.
- Мосс М. Общество. Обмен. Личность: труды по социальной антропологии. -М.: Восточная литература, РАН, 1996.
- Нестеренко В.М., Ионесов В.И. О некоторых гуманистических основаниях разнообразия и идентичности в системе межкультурной коммуникации//Вестник Самарского государственного технического университета. Серия: Психолого-педагогические науки. -2012. -№ 2 (18). -С. 148-153.
- Топорков А.Л. Символика и ритуальные функции предметов материальной культуры.//Этнографическое изучение знаковых средств культуры. -М.: Наука, 1989. -89-101
- Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: исследования в области мифопоэтического. -М.: Прогресс-культура, 1995.
- Ionesov V. Imitative Ritual in Proto-Bactrian Mortuary Practice//Current Anthropology. 1999. T.40. C.87-89.