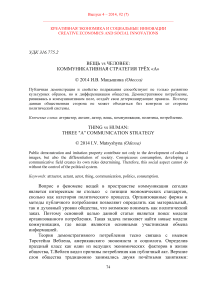Вещь vs человек: коммуникативная стратегия трёх «А»
Автор: Мацышина Ирина Витальевна
Журнал: Креативная экономика и социальные инновации @cesi-journal
Рубрика: Предметный Мир как антропологическая проекция
Статья в выпуске: 2 (7) т.4, 2014 года.
Бесплатный доступ
Публичная демонстрация и свойство подражания способствуют не только развитию культурных образов, но и дифференциации общества. Демонстративное потребление, развиваясь в коммуникативном поле, создаёт свои детерминирующие правила. Поэтому данная общественная сторона не может обходиться без контроля со стороны политической системы.
Аттрактор, актант, актор, вещь, коммуникация, политика, потребление
Короткий адрес: https://sciup.org/14238986
IDR: 14238986 | УДК: 316.775.2
Текст научной статьи Вещь vs человек: коммуникативная стратегия трёх «А»
Вопрос о феномене вещей в пространстве коммуникации сегодня является интересным не столько с позиции экономических стандартов, сколько как категория политического процесса. Организованные формы и методы публичного потребления позволяют определить как материальный, так и духовный уровни общества, что возможно понимать как политический заказ. Поэтому основной целью данной статьи является поиск модели организованного потребления. Такая задача позволяет найти новые модели коммуникации, где вещи являются основными участниками обмена информацией.
Теория демонстративного потребления тесно связана с именем Торстейна Веблена, американского экономиста и социолога. Определив праздный класс как один из ведущих экономических факторов в жизни общества, Т.Веблен видел причины потребления как публичный акт. Верхние слои общества традиционно занимались двумя почётными занятиями:
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS военное дело и священнослужение. «С незначительными исключениями соблюдается правило: верхние слои общества, будь то воины или священнослужители, не заняты производственной деятельностью, и эта незанятость есть экономическое выражение их высокого положения» [Веблен, 1984: 57]. Ручной труд, по мнению Т. Веблена, считается исключительно занятием низших слоёв. У кочевников военное дело является основной границей разделения населения на две социальные категории. Интересно то, что причиной перехода от первобытного общества к варварству является именно военное дело, как условие зарождения праздного класса. Т.Веблен указывает на два фактора: 1) у общности должен быть хищнический уклад жизни, война или охота на крупную дичь или и то, и другое), т.е. мужчины, составляющие в этих случаях зарождающийся праздный класс, должны усвоить привычку причинять ущерб силой и хитростью; 2) «средства для поддержания жизни должны доставаться не на достаточно лёгких условиях с тем, чтобы можно было освободить значительную часть общества от постоянного участия в труде по заведенному распорядку» [Веблен, 1984: 62.]
Таким образом, одним из побудительных мотивов к праздности является агрессия . Статус оправдывается демонстрацией силы, которая заложена в правовом отсутствии публичного труда. Его замещает право на приказ, как орудие публичной силы. В этом случае происходит выражение труда почётных граждан первобытного общества. Хищническая культура и духовная культура являются монополизированными высшим классом. И если в первом случае её проявления хаотичны (в зависимости от внешних и внутренних ситуаций), то во втором случае поддержка нужного идеологического настроя является более сложным конструктом организации общества.
Со временем, статусное освобождение от ручного труда и наделение полномочиями управлять приводит к зарождению собственности. Причём не только к денежной собственности (это могут быть как недвижимость, так и закрепощение других людей). «Обладание богатством наделяет человека почётом, почёт выделяет людей и делает их объектом зависти» [Веблен, 1984:76].
Т. Веблен находит интересный ракурс в подходе к ручному труду отмечая, что труд вообще воспринимается в условиях хищнической культуры как «унижающий достоинство». «Отличительной чертой в жизни праздного класса является демонстративное освобождение от всяких полезных занятий» [Веблен, 1984: 86-87]. Таким образом, воздержание от труда является необходимым внешним атрибутом для высшего сословия.
Потребление демонстрирует не только свой автономный статус, но и расставляет акцент в дифференциации (расслаивании) общества через призму 75
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS использования ручного труда. Иными словами, кто меньше занимается ручным трудом, имеет больше прав не только на управление, но и на прививание вкусов.
Данная социальная группа (при отсутствии навыков ручного труда) с помощью демонстративного потребления закрепляет в обществе культурные образы посредством использования вещей. Публичная демонстрация у одной социальной группы, и свойство подражания как таковое, способствуют развитию культурных образов по вертикали сверху вниз.
Жан Бодрийяр феномен потребления понимал как признак общества изобилия. В таком обществе определение места человека происходит посредством вещей им используемых. Поэтому потребление строго дифференцирует социальный статус, где идея равенства категорически нивелируется. Доступность любой вещи для потребления является лишь иллюзией демократии. Поскольку состояние потребления вещей вынуждает нас постоянно оставаться в зависимости от желания владеть всё новыми и новыми вещами.
У Ж. Бодрийяра есть такое понятие как «опережающее потребление». Автор указывает на то, что «сегодня же вещи появляются у нас, еще не будучи заработаны, предваряя собой воплощенную в них сумму трудовых усилий, их потребление как бы опережает их производство» [Бодрийяр, 1999:172]. Хотелось бы продолжить мысль учёного дальше. Сегодня идеология праздности изменила логику производства. Классически вначале создаётся вещь, а затем её покупают. Система предоплаты нарушила подобную цепь. Возможность приобрести вещь до того, как на неё потрачен труд для заработка, привела к тому, что вещь покупается до её производства. Авансирование породило новое миропонимание вещей и их потребление, когда вещь становится собственностью без материального присутствия. Находясь в маргинальном состоянии собственника, субъект уже попадает в зависимость от ешё отсутствующей вещи. Манипулирование статусом посредством вещи определяет знак в значении. В качестве механизма закрепления знака в вещи является коллективная память.
Память для слов более трудоёмкая, чем память для вещей. Сами вещи -это предметное содержание речи. По мнению Цицерона, в идеале память должна хорошо запоминать как вещи, так и слова. Мышление имеет дело не с ощущениями, а с переработанным воображением образами. Мир воспринимается с помощью образов, которые сопровождает мышление. В процессе его работы происходит сравнение и запоминание. У Аристотеля воображение является посредником между восприятием и мышлением . Реальный мир у Аристотеля состоит из формы, которая представляет сущность предмета (вещи). Поэтому и познание мира происходит посредством познания вещей. Несмотря на то, что вещи с течением времени 76
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS изменяются, форма вещей вечная. «Она не возникает и не погибает» [Аристотель, 1976:13]. Форма у Аристотеля, это «бытие в возможности». То есть, это то, что имеет возможность стать действительным. Наивысшим существом материального мира является человек, у которого материя – это его тело, а форма есть его душа.
По мнению Френсиса Йейтса, искусная память состоит из мест и образов (locus и formae). Для того, чтобы запомнить конкретный предмет, его образ необходимо поместить в определённое место. Таким образом, материал будет запоминаться благодаря формулированию мест образов в памяти. Так как сами образы без места стираются и блекнут, а места, которые выделяет память, не только структурируют образы, но и дают возможность фиксироваться новым образам. «Искусство памяти подобно внутреннему письму. Тот, кто знает буквы алфавита, может записать продиктованное ему и прочесть то, что записано» [Йейтс, 1997:18]. Каждое место (locus) полезно отмечать примечательным знаком (Т. Йейтс указывает, что лучшими отличиями по названию мест является каждое пятое, десятое и т.д.).
Система мышления выстраивается на произношении образов, которые логично размещены в системе мыслящего субъекта. Т. Йейтс отмечает, что у Джордано Бруно образы делятся на внутренние и внешние, причём первые гораздо ярче последних. «Убеждение в том, что существуют внутренние образы, которые ближе к реальности, чем объекты внешнего мира, что реальность ухвачена и единое видение достигнуто, лежит в основании всей работы. Образы, увиденные в свете внутреннего солнца, слиты друг с другом и встроены в созерцание Единого [Йейтс, 1997: 372]. Благодаря тому, что вещи, будучи знаками в значении, логично расставляются в сознании реципиента, формируется мнемоническая структуризация окружающего мира. В нём всё должно подлежать порядку. Несовпадение в логике грозит коллективному хаосу в сознании, что в реальной жизни подобно угрозе революционного состояния. Поэтому социальная жизнь вынуждена включать модели организованного потребления как политический заказ. Появление ряда телевизионных программ, таких как «Модный приговор», «Снимите, вам это не идёт» и т.д. являются не только следствием запроса на их контент у современного зрителя, но и формированием вкусовых качеств публики. Суть в том, что зритель при просмотре программ по искусству потребления подсознательно усваивают более идеологическую речь: всё, что на нём будет одето изначально уже есть фейк, поскольку в процессе не принимал участие менеджер по вкусам. Иными словами, регламент потребления включает цензуру, которая устанавливает правила потребления. Одним из девизов одного PR сайта по продвижению брендов является фраза: «FASHION – моду создают ЛИЧНОСТИ - и мы должны им соответствовать, быть с ними «одной крови» [Fashion-PR].
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS
Как происходит сегодня внедрение образа вещи в коллективное сознание, когда последнее становится её массовым потребителем? Здесь очень уместно обратиться к размышлениям Б.Латура о феномене актанта. Автор рассматривает актант как любое действующее лицо, чьё действие значимо для сети. Если мы обратимся к коммуникации, то тот, кто является её участником, уже превращается в актанта. «Тот, кто попал в текст или нарратив, - есть актант, независимо от своей природы» [Латур, 2006: 42]. Вещь, как участник коммуникации, становится актантом не только, когда её помещают в текст (например, в рекламу), а когда есть реакция на неё. Являясь неким аттрактором, который вносит разногласия в коммуникацию, (вещь) актант стабилизирует коммуникацию в новом протоколе. После этого актант становится узнаваемым актором. Триада преображения вещи посредством коммуникации (аттрактор – актант – актор) овеществляет реальность не посредством материализации, а посредством коммуникации через вещь. Примером внесения подобного социального протокола, который регламентирует отношения, может быть паспорт. Его история появления пошатнула систему отношений идентификации человека, где слово имело вес. Будучи аттрактором, который внёс на несколько лет хаос в самопрезентацию личности (как отправитель) и осознание/признание Другого через бумагу (как получатель), паспорт становится актантом коммуникации. Сегодня он является законодательно закрепившимся актором. Но обратная сторона заключается в том, что паспорт сегодня в состоянии заменить вообще реальное присутствие человека. Пространство коммуникации в состоянии обходиться без владельца паспорта. По Б. Латуру произошёл обмен свойствами между людьми и вещами. Делегировав полномочия вещам, человек стал зависим от сети, которую определяют вещи. Всё больше в ней задействовано акторов, которые являются техническими посредниками в коммуникации. И каждый раз создаётся новая фреймированая модель, которая подобна ризоме. Мир распадается на части, где вещи определяют границы коммуникации. Коммуникация сегодня это не только Я плюс Другой (и обратная связь). А это Я плюс Вещь (в нашем случае паспорт) и Другой, где вещь в состоянии заменить и Я и Другого. Отсюда социальную коммуникацию в её классическом виде невозможно понимать как обмен информацией между людьми. Поскольку в ней доминирующими условиями обмена является присутствие вещей, последние между собой, через себя и посредством себя создают условия, которые формируются системой контроля.
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS
Список литературы Вещь vs человек: коммуникативная стратегия трёх «А»
- Аристотель. Сочинения в четырёх томах. Т.1. Ред. В.Ф. Асмус. М.: «Мысль», 1976. 550 с.
- Бодрийяр Ж. Система вещей. М.: Рудомино, 1999.
- Веблен Т. Теория праздного класса. М.:Прогресс, 1984.
- Йейтс Ф. Искусство памяти/Френсис Йейтс. СПб.: Университетская книга. 1997. 479 с.
- Латур Б. Нового времени не было. Эссе по симметричной антропологии/Пер. с фр. Д.Я. Калугина; Науч. ред. О.В. Хархордин. СПб.: Изд-во Европ. Ун-та в С.-Петербурге, 2006. 240 с.
- Мин И. «Наша коммуникация устроена шизофреническим образом»: социолог техники Виктор Вахштайн о мире глобального расцепления/Иван Мин. Электронный ресурс. Режим доступа: http://theoryandpractice.ru/posts/8550sociology_tehniki
- FASHION-PR. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.fashionpr.com.ua/cms/about/philosophy.html