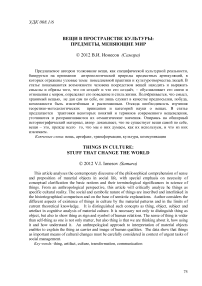Вещи в пространстве культуры: предметы, меняющие мир
Автор: Ионесов Владимир Иванович
Журнал: Креативная экономика и социальные инновации @cesi-journal
Рубрика: Культурологические интерпретации
Статья в выпуске: 2 (3), 2012 года.
Бесплатный доступ
Предлагаемое автором толкование вещи, как специфической культурной реальности, базируется на признании антропологической природы предметных артикуляций, в которых отражены узловые темы повседневной практики и культуротворчества людей. В статье показываются возможности человека посредством вещей находить и выражать смыслы и образы того, что он создаёт и что его создаёт, - обуславливает его связи и отношения с миром, определяет его поведение и стиль жизни. Подчёркивается, что смысл, хранимый вещью, не дан сам по себе, он лишь служит в качестве предпосылки, побуда, возможности быть извлечённым и распознанным. Отсюда необходимость изучения теоретико-методологических принципов и категорий науки о вещах. В статье предлагаются трактовки некоторых понятий и терминов современного вещеведения, уточняются и разграничиваются их семантические значения. Опираясь на обширный историографический материал, автор доказывает, что не существует вещи самой по себе, вещи - это, прежде всего то, что мы о них думаем, как их используем, и что из них извлекаем.
Вещь, артефакт, трансформация, культура, коммуникация
Короткий адрес: https://sciup.org/14238935
IDR: 14238935 | УДК: 008.1/6
Текст научной статьи Вещи в пространстве культуры: предметы, меняющие мир
Беспокойство вещами
Настоящая статья предваряет многосоставное исследование по феноменологии вещи, пытающееся через когнитивные проекции и взаимосвязи обосновать культурологическое понимание смысла и назначения предметного мира культуры в контексте его исторических и современных трансформаций. Предметные артикуляции культуры служат не только базовым каркасом освоенной человеком природы, но и принуждают общество неустанно искать, создавать и изменять среду своего существования, всякий раз отвечая на вызовы внешнего мира и социальной необустроенности.
В данной части исследования речь пойдёт о вещах, в их понятийнотерминологическом представлении, о значении и разграничении основных концептов вещеведения, за словесным обрамлением которых часто скрываются фундаментальные вопросы теории культурогенеза и которые позволяют интерпретировать различные факты и сюжеты предметных, событийных и ментальных взаимоотношений в меняющемся обществе. Вещи, как индикатор материального освоенного, испытывают культуру на прочность, и, как рационально обозначенного, нередко становятся источником всевозможных провокаций, конфликтов и недоразумений. Между тем, в современном гуманитарном знании всё ещё не выработан надлежащий язык, позволяющий адекватно описать природу и специфику предметных преломлений в культурном процессе, а также зафиксировать, классифицировать и объяснить в точных теоретико-методологических категориях основные параметры трансформации вещи.
Нельзя не отметить, что за последние пятьдесят лет в науке о культуре обозначился явный поворот к изучению конкретных материальных объектов и их предметных манифестаций как семантически-знаковых комплексов и, в особенности, сопровождающих их полиструктурных контекстов, во многом определяющих наше восприятие, оценку, понимание, как повседневных ситуаций, так и эпохальных событий. Вещи перестают быть лишь неподвижными статистами, всецело зависящими от воли и намерений людей, но в условиях постмодернистской реальности всё сильнее сами начинают влиять на социальное поведение, ценностные предпочтения и управленческую деятельность. Казалось бы, как когда-то заметил Ж.-П. Сартр: «Предметы не должны нас беспокоить: ведь они не живые существа. Ими пользуются, их кладут на место, среди них живут, они полезны — вот и все. А меня они беспокоят, и это невыносимо. Я боюсь вступать с ними в контакт, как если бы они были живыми существами!» [16, с.31]. Это подмеченное французским философом беспокойство вещами особо выразительно стало проявлять себя в эпоху информационно-компьютерных технологий и транс-культурной коммуникации. Вещи, которые движутся; вещи, которые смотрят и говорят; вещи, которые мы изменяем; вещи, которые изменяют нас; вещи-трансформеры и вещи-гибриды – вот лишь некоторые заголовки актуальных культурологических и художественно- экспериментальных презентаций сегодняшнего дня (I). В «объектив» современных культурологических исканий попадает всё больше предметных артикуляций, которые целиком, крупным планом, частями или даже фрагментами обозначают и проецируют «меж контуром и запахом цветка» «тонкие властительные связи», новую калейдоскопическую реальность или новое семантическое поле, примиряющую и сцепляющую простые и сложные формы, вечное и сиюминутное, большое и малое, порядок и хаос, постоянство и изменение…
Всё свидетельствует о том, что вещи становятся не только объектом междисциплинарного изучения, но ключевым звеном инновационного проектирования и постмодернистской экранизации в самых разных отраслях общественно-экономической и художественной деятельности, включая дизайнерское и интерьерное творчество, визуальную стилистику, рекламу, туризм, арт-менеджмент, презентационно-выставочные инсталяции, PR-индустрию, сервисные технологии, архитектурно-предметные модуляции, экспериментально-урбанистическое конструирование и даже социальнополитические практики. Изучение креативных возможностей вещи есть та область гуманитарного знания, которая наиболее продуктивно сближает и объединяет новейшие теоретические исследования и инновационный практический опыт визуально-художественного моделирования, и тем самым, генерирует новые формы диалога между наукой и обществом.
В дискурсе современного гуманитарного знания вещь выступает в культуре в качестве материально-артикулированной духовной сущности, за телесной оформленностью которой скрываются намёки, смыслы, образы и императивы экзистенциальных исканий человека. Феномен вещи можно анализировать с различных методологических и философских позиций, опираясь на опыт интерпретации онтологических, технологических, социальных, семантических, этно-культурных значений материальных объектов в их пространственных и временных проекциях. Традиционно вещеведческая тематика широко представлена в таких отраслях науки как искусствознание, археология, этнография, литературоведение, а также в специальных исследованиях, посвящённых изучению конкретных форм функционирования вещей, включая геральдику, сфрагистику, пиктографику, иконологию, нумизматику, источниковедение и др. В последнее время стали заявлять о себе и новые области изучения вещей и связанных с ними контекстов: артефактология, костюмология, имиджелогия, орнаментика, колориметрия (цветоведение), эргономика, флористика, одорология (наука о запахе) и др. (II).
В этой ситуации вещи выходят на первый план, как культурного проектирования, так и теоретического осмысления, что обостряет интерес к самой природе, генетическим истокам, трансформации и проекциям предметных артикуляций в жизни социума. Становится очевидным, что вещи, действительно, могут рассказать нам больше, чем мы знаем о себе. Но сама вещь есть лишь сгусток неодушевлённой материи, дистанцированный и равнодушный к человеческой деятельности. Вещь, взятая только как материальный объект, выступает для человека всего лишь фрагментом, куском окружающей его действительности. В этом ракурсе вещь как таковая изначально «замурована» в телесную оболочку, безучастна и безмолвна к происходящему в культуре. Но будучи творением человека, вещь одновременно предстаёт и в своём антропоцентрическом измерении, т.е. выражает человеческие отношения во всём их многообразии. Именно в этом качестве вещь обретает свои информационно-сигнификативные свойства и социальную ценность и, тем самым, переходит в разряд носителей культурной информации. Выражаясь словами героини романа «Мост через вечность» Ричарда Баха: «Дело не в вещах, Ричи, дело в смысле вещей».
Однако смысл хранимый вещью не дан сам по себе, он лишь служит в качестве предпосылки, побуда, возможности быть извлечённым и распознанным. Таимый в вещи смысл, первоначально предстаёт в виде её символико-знакового обрамления, и как следствие, включает материальный предмет в систему иных (внешних, нематериальных) отношений и проекций. И здесь не обойтись без выяснения тех первичных институций, позволяющих нам считать вещь вещью. Вещь ведома символом. По Августину всякое толкование основано на двух принципах: «сначала мы будем рассуждать о нахождении, затем о выражении». «Всякое учение либо о вещах (res), либо о знаках (signum), но вещи изучаются через знаки» (соl. т.е. колонка, 19) [29; Цит. по: См. 14, с.228].
Итак, ставится задача найти и определить то, что вещами является и выразить то, что они означают. В самых общих представлениях под вещью подразумевается всякий изготовленный человеком предмет, изделие бытового обихода, личного пользования, трудовой деятельности и т.д. В разговорной речи синонимами вещи выступают такие слова как предмет, материя, материал, безделушка, объект, штука, произведение, создание, поделка, творение, изделие, нечто, что-то. В науке о культуре понятие вещь чаще всего соотносится с лексемами объект, предмет и артефакт. Равнозначно ли содержание этих концептов? Попробуем разобраться.
Пожалуй, в гуманитарных науках классификация вещей и их терминологические дефиниции наиболее систематизированно представлены в исследованиях археологов. Это связанно с тем, что археология имеет дело с вещами и их производными самым прямым образом. Археолог раскапывает вещь из земли, восстанавливая форму, выявляет функцию, верифицируя её пространственную, хронологическую и культурную принадлежности, и, наконец, реконструирует её социальные связи, атрибуции, символические свойства и пр. По этой причине теоретическая археология сегодня располагает наиболее репрезентативным корпусом предметных указателей и классификаций понятийно-терминологических определений вещеведческой тематики. При этом важно, что в археологические классификации включаются даже самые дискретные, портативные, фрагментарные и минимизированные образцы и признаки материальной культуры, явленные в вещи, такие как мерон, формема, фактема и др. В археологической литературе под вещью понимается любой артефакт или дискретный сгусток материальной субстанции, сформированный или преобразованный культурными действиями людей [11, c.65]. При этом понятие артефакт, характеризует конкретный материальный объект, сделанный в соответствии с нормами культуры и отвечающий следующим признакам: 1) вещественность, 2) искусственность и 3) культурная нормативность (обусловленность и подчинённость предмета системе норм культуры) [1978, с.83]. В.С. Бочкарёв определяет вещь как любой материальный объект, изготовленный или модифицированный человеком и выполняющий определённую культурную функцию [4, с.35].
В дискурсе философского знания вещь понимается как отдельный предмет материальной действительности, обладающий относительной независимостью и устойчивостью существования. Прежде всего, отмечается, что вещь веществует и из веществования вещи определяется присутствие её как таковой (М. Хайдеггер). Однако «вещь не есть ни материал вещи, ни форма, ни соединение того и другого» – пишет А.Ф. Лосев [13, с. 428]. «Общаясь с самой вещью, рассуждает А.Ф. Лосев, я общаюсь с чем-то таким, что существует позади или поверх, вне соединения её формы и материи. Чтобы войти в комнату, я должен знать, что такое ключ, что такое замок, что такое дверь; и без этого я не могу войти в комнату. Почему? Потому что ключ, замок и я сам суть некоторые вещи, и моё вхождение в комнату есть некоторое общение вещей. Но нужно ли мне знать, что такое форма ключа, что такое материал из которого сделан замок, и как соединяется моя форма с материалом, из которого она сделана? Ничего этого знать не требуется – для вхождения в комнату. Почему? Потому что это не есть сами вещи, между которыми происходит здесь общение, и тем более не есть то, что для них существенно» [13, с. 433]. Невозможно получить саму вещь из её формы, свойств и признаков и даже взятые вместе они не становятся вещью. А.Ф. Лосев видит сущность вещи в её абсолютной индивидуальности, неповторимости и единичности [13, с. 446-447].
По замечанию В.С. Топорова, предметы обретают статус вещи , становясь знаком, что превращает их в элемент «совсем иного пространства – не материально-вещественного, но идеально-духовного» [17, c.11]. Семантические проекции вещи в коммуникативном пространстве современности принимают вид мифопоэтического нарратива и предметносимволической инсталляции, публичного перформанса и ветвящегося гипертекста. Вещи выступают как знаки, а знаки как вещи в разветвлённом потоке визуальной информации. Жизнеорганизующей и смыслообразующей средой современных предметных артикуляций выступает сам текст, точнее его контексты и подтексты. В постмодернистской реальности «любой феномен культуры ХХ века осмысливается как текст, а любой текст как чувственно воспринимаемая вещь», – отмечает В.В. Бычков [5, c. 108].
Вместе с тем знаки-образы никогда точно не совпадают с теми смысловыми установками, которые вещами задаются. Вещи функционируют в духовной среде, «где непосредственно внятное никогда не совпадает с сознательно понимаемым, знаемое – с промысливаемым, проговариваемым или изображаемым» [6, c.46]. Под воздействием техногенных процессов формируется так называемая гиперреальность, с характерной для неё симуляцией действительности. «В определенный момент вещи, помимо своего практического использования, становятся еще и чем-то иным, глубинно соотнесенным с субъектом; это не просто неподатливое материальное тело, но и некая психическая оболочка, в которой я царю, вещь, которую я наполняю своим смыслом, своей собственностью, своей страстью» [3, с.73]. Нескончаемые трансформации современных социальных систем и структур коммуникативного действия наращивают темп культурных изменений и переходов, в которые включаются также и вещи. Мультикультурное общество всё более диверсифицируется, в том числе и посредством вещей. В современном постмодернистском пространстве через визуальные образы вещей позиционируются глобальные трансформации и сопряженные с ними структуры социального поведения, обременённые нарастающими экзистенциальными переживаниями, турбулентными сдвигами и мировоззренческими смятениями. Проектируется новое мультилинейное пространство для их диалога (III). Ролевые функции вещей в системе визуальной коммуникации тиражируются вместе с усилением социальной мобильности людей и ростом возможностей информационных технологий. Однако базовые социально-ролевые установки вещи остаются в силе. Согласно О.Я. Генисаретскому, «вещь играет множество всяких ролей, которые можно свети к четырём основным значениям – достижению, обеспечению, обнаружению и внушению. Вещь – достигаемая известна в жизни как цель, интерес, потребность, результат… Вещь – обеспечивающая, напротив, посредничает, обуславливает, даётся, есть всегда в очевидном наличии, её имеют, ею пользуются… Вещь – обнаруживаемая выводит все во вне, связывает с внешним миром, показывает нас ему, а его нам, посредничает, наружный мир приготавливает к нашему действию…. Вещь – внушающая, напротив, обращает нас внутрь себя, отвращает от внешнего мира, подпирает внутреннюю готовность к действию и обнаружению, объединяет, хранит в целостности, бережёт» [3, с.42].
Наука о вещах
По всему видно, возникает необходимость формирования специальной отрасли знания, в которой объектом изучения будут выступать вещи как феномены культурной реальности. Такое научное направление получило название реалогия (от латинского "res" – вещь) или иначе вещеведение. М.Н. Эпштейн предлагает именовать реалогией гуманитарную дисциплину, изучающую единичные вещи и их экзистенциальный смысл в соотношении с деятельностью и самосознанием человека [27]. «Реалогия постигает реальность не только в обобщенных понятиях и даже не в более конкретных образах, но в единичных вещах, ищет способы наилучшего описания и осмысления бесчисленных "этостей". Единичное – существует, и значит, оно – существенно». Как отмечает М.Н. Эпштейн, «задача реалогии как теоретической дисциплины – постичь в вещах их собственный, нефункциональный смысл, не зависимый ни от товарной стоимости, ни от утилитарного назначения, ни даже от их эстетических достоинств » [25, с.347].
Несмотря на институциональную новизну реалогии как отдельной отрасли гуманитарного знания в современной науке уже сложилась обширная историографическая база вещеведческих исследований [1-18; 2022; 24-32]. Философско-методологические традиции изучения вещей связаны с работами А.Ф. Лосева, М. Хайдеггера, Х. Ортеги-и-Гассета, Ж.-П. Сартра, Ж. Делёза, Ж. Бодрийяра, В.Н. Топорова, О.И. Генисаретского, М.Н. Эпштейна, Д. Миллера которые обосновывают различные проекции вещи, но всякий раз, так или иначе, открывая и фиксируя в её предметном бытии надпредметные смысловые установки и антропоцентрические позиции [2;3;6;7;13;15;16;17;18;20;21;25;26;27;31;32]. В целом, вещеведение как научное направление можно разделить на четыре группы исследовательских практик: 1) когнитивно-философские (А.Ф. Лосев, М. Хайдеггер, Х. Ортега-и-Гассет, В. Беньямин, Ж.-П. Сартр, Х.-Г. Гадамер, М. Фуко, Ж. Делёз, Ж. Деррида, Ж. Бодрийяр); 2) теоретико-культурологические (А. Аппадураи, О.И. Генисаретский, Ж. Диди-Юберман, К.Леви-Строс, С.Т. Махлина, Д. Миллер, В.Н. Топоров, М.Н. Эпштейн); 3) источниковедческие (В.С. Бочкарёв, И.С. Каменецкий, Я.А. Шер, Г.С. Кнабе, Д.Л. Кларк, Л.С. Клейн, Р. Лейтон, Д. Роуз, Г. Тромпф, И. Ходдер, Ю.Л. Щапова) и 4) искусствоведческие (В.В. Аристов, Р. Арнхейм, В. Аронов, М. Дюшан, К. Гринберг, А.В. Иконников, А.В. Михеев, М. Реймс).
Наука о вещах рассматривает материальные объекты и их предметные артикуляции не как технологические, утилитарные или эстетические средства культуры, но как отдельные единичные феномены, имеющие свои онтологические особенности, формы репрезентации и внутреннюю логику существования (IV). Здесь единичность вещи не есть её сепаративность или оторванность от культуры и человека. Напротив, единичность вырастает из общего, также как общее прирастает единичным. У каждой вещи есть своё название, своя функция, свой облик, своё местоположение, свой возраст, свой утилитарный статус (значимость). Не будь вещь как единичность, не на чем было бы все эти особенности крепить, на общем они не держатся. Единичность вещи делает её узнаваемой, а значит и доступной для включения в коммуникативный процесс культуры. Наряду с этим, единичность вещи определяет её значимость в системе взаимодействия с другими единичностями (вещами) и тем самым закрепляет её социальную ценность и антропоцентричность, т.е. реализует её функциональную полноту связей с внешним миром. В этом плане достижение статуса единичного означает включение вещи во взаимосвязь со всеобщим. Вещь как единичность одновременно воплощает в себе реализацию всеобщих качеств. Реализовать (от лат. realis – вещественный) и значит привести в движение вещи, овеществить действительность, иными словами её опредметить и окультурить. Реальность и предстаёт для человека в своём наиболее полном воплощении как мир вещей. Вещь предстаёт в культуре как одухотворение и преображение материи, взаимопроникновение духа и плоти. С помощью вещи человек снимает остроту своего родового раскола и отчуждения. Вещи создаются для человека и служат не только для решения его практических задач, но и для социального умиротворения. Как замечает Ж. Бодрийяр, «мы не можем жить в абсолютной единичности, в той необратимости, знаком которой является момент рождения. Отрешиться от этой необратимости, устремленной от рождения к смерти, помогают нам вещи. …Вещь получает ту психическую нагрузку, которую «должны были» взять на себя отношения с людьми, — но именно такой ценой вещи и получают свою огромную регулятивную силу. Ныне, когда исчезают религиозные и идеологические инстанции, нашим единственным утешением остаются вещи; это бытовая мифология, в которой гасится наш страх времени и смерти» [3, с.82-83].
Итак, вещи скрывают от нас гораздо больше того, что мы видим в их внешнем проявлении. За визуальными образами, казалось бы, застывших человеческих творений, лежит огромный пласт подвижной символической реальности, отображающий экзистенциальную драму нескончаемых притязаний и испытаний человека, культуры и природы. Вещь подвержена трансформации и предстаёт в культуре в многообразных одеяниях. Культурология вещи позволяет видеть в ней различные антропопроекции, демонстрирующие широкий спектр её смысловых и когнитивных установок: вещь как единичность, предмет, знак, имя, символ, образ, трансформер, ретранслятор, коммуникатор, текст, миф, самость, переход, граница, след, память, атрибут, идентичность, персонаж, событие и др. Посредством вещей культура обозначает себя в пространстве жизни, выстраивая, доопределяя и экранизируя окружающую человека действительность. В процессе овеществления мира открываются не только возможности его преобразования, но и расширяются границы культуры. Фиксируется и обратная зависимость человека от груды безмерно нарастающей предметной насыщенности. Когда вещь начинает повелевать чувствами и разумом человека, и случается, что заточает его в глухую и беспросветную темницу фетишизма. Однако в факте очевидной и нарастающей зависимости от вещей не только урезается часть свободы человека, но и нейтрализуется опасность вторжения хаосогенных сил. Как точно заметил О.И. Генисаретский, «культурные ограничения свободы человека вознаграждены ограничением свободы стихии» [6, с.12].
По существу именно вещи по причине своей социальной и символической природы делают мир для человека видимым, различаемым и слышанным. Вещи есть одомашненная реальность, материя, преобразованная в человеческий образ, и потому обретшая свой голос. Становясь вещающей, освещающей и устанавливающей силой вещи придают пространству свойства текста, разграничивают и верифицируют действительность, персонифицируют и осюжечивают отношения между людьми, привносят в них смыслообразы и порядок. Мир вещей – это мир существования единичностей, которые только и могут делать мир единым. В этом единстве единичностей культура обретает свою неповторимую, уникальную данность как надсоматический способ адаптации, выживания и спасения. Вещи приближают мир к человеку, делают его досягаемым для экспериментов, проб, ошибок и открытий. Рост досягаемости приводит к росту досуга. Кстати досуг в свете своего первоначального этимологического значения и означает "то, что достигнуто" (ср. сербохорв. досег "граница", русск. досяга ть).
Веществование вещи есть приближение мира как самого бытия (М. Хайдеггер), именно в этом контексте, по утверждению В.Н. Топорова и «должна быть понята вещь», которая вдруг превращает опасность в спасение, высветляя суть — истину бытия [18, с.74; 21, с.89]. Вещь удерживает в себе полноту своего бытия. В границах вещи снимается присущий для человека конфликт между материальным миром и его ограниченной антропосоматической данностью – необходимым и возможным, действительным и воображаемым, материальным и духовным, невидимым и видимым, отсутствующим и присутствующим, отчуждённым и включённым, бесконечным и конечным (оформленным). Вещь всегда, так или иначе, выражает полноту связей в проработанном человеком локусе бытия, полноту организованного воздействия человека на материю. Опредметить вещь и значит привнести в неё надлежащий порядок, т.е. преобразить материю в упорядоченный набор признаков. Самая первая вещь человека – каменное орудие – есть, ни что иное как, упорядоченный набор сколов. В этом смысле, вещи всегда присуща определённая полнота, самодостаточность признаков. «Полнота — это когда уже нет такой меры, которая не была бы присуща вещи», - говорит Мо-цзы.
Вещь как трансформер
Полнота бытия вещи, как распознанной и опредмеченной человеком материи или упорядоченной природы, генерирует способность перевода морфологических свойств вещи во внешний мир, который служит своего рода мишенью для предметного вторжения и овеществления. Следовательно, «всякая вещь – это главным образом ряд условий, выполнение которых создаёт её возможность» [15, с.207].
Так в цикле культурно-генетической трансформации вещи можно различать несколько последовательных вычленений или модусов: 1) конкретизирование (выбор и обособление объекта, материал изготовления – от лат. concretus – густой, сгущённый уплотнённый); 2) позиционирование вещи (матрица, физическая среда и положение объекта); 3) конструирование (оформление, морфологическая упорядоченность – от лат. construere – создавать); 4) проектирование (организация отношений с внешним миром, включение в социум – от лат. projectus – брошенный вперёд); 5) проецирование (визуальная экранизация и коммуникация вещи). Конечным пунктом культурно-генетической трансформации вещи собственно и выступает её визуально-художественная проекция или символическая персонификация, где вещь становится персонажем, обретает событийность и сюжетность. Вспоминается реплика Ж. Делёза – монтаж превращается в «монтраж» (философ ссылается на выражение французского режиссёра Робера Лапужада (“Du montage au montrage”, от франц. montrer «показывать») [7, c. 337].
Ж. Делёз находит шесть типов ощутимых и явленных образов: образ-перцепцию, образ-эмоцию, образ-импульс, образ-действие, образ-рефлексию и образ-отношение. Образ-перцепция наделяет прочие типы биполярным составом, приспосабливающимся к каждому случаю и выражающему «множество элементов, воздействующих на центр и варьирующих по отношению к нему» [7, c.327, 616]. Образ-эмоция (переживание) выражается с помощью иконы, которая соотносится с качеством или потенцией, проявленными во внешнем облике, но не актуализованные. Образ-импульс есть промежуточный между эмоцией и действием, складывается из фетиша, фрагмента реальной (производной) среды, выхваченного при помощи энергетического выброса и соответствующего изначальному миру. Образ-действие представляет собой «актуализованную реальную среду, ставшую достаточной и, такую, в которой глобальная ситуация вызывает некое действие или, напротив, действие раскрывает часть ситуации». Образ-рефлексия или трансформируемый образ, «движущийся от действия к отношению, возникает, когда действие и ситуация вступают в косвенные взаимоотношения: тут знаками служат фигуры», отсылающие к сценографическим, пластическим, инвертированным или дискурсивным образам». Образ-отношение «соотносит движение с выражаемым им целым, а также варьирует целое сообразно распределению движения» и где двумя его составными знаками выступают так называемые ярлык (когда образы связываются привычкой) и снятие ярлыка (когда образ вырывается из естественного ряда или отношения), актуализованные в символе [7, c. 327328, 616-617] .
Посредством культурно-генетических преломлений вещи и шире, предметного мира культуры, человек пытается обрести свою антропологическую завершенность, и в этом процессе в наиболее репрезентативном виде проявляются его созидательные гуманистические и духовные способности. Обращает на себя внимание, что в культуротворчестве человек всякий раз обретает себя заново – то и дело, подтягивая себя к реальности и приближая реальность к себе. Создание вещи – это всегда открытие себя в мире и мира в себе. Вещь позиционируется в культуре как «очеловечивающаяся вещь и овеществляющийся человек» [17, c.27] (V). В этом видится гуманистическая миссия артефактов как носителей смыслообразов, утаивающих и вещающих нам о человеке. Одновременно с этим, вещь воплощает в себе полноту бытия, объединяя человека и действительность через их разграничение, т.е. посредством упорядочивания отношений между организмом и средой. Удерживая в себе полноту бытия, вещь выражает степень завоёванного человеком знания. Эта особенность антропологической природы вещи была замечена ещё в древности. «Когда свое завершение получает человек, это свидетельствует о человеколюбии. Когда свое завершение получают вещи, это свидетельствует о знании» (Ли цзи).
Таким образом, разговор о вещах как смыслообразах культуры предписывает необходимость раскрытия их антропологической природы и закрепления за ними статуса онтологического символа человеческих отношений и посему требует контекстуального анализа заданных предметами форм и проекций. В вещах спроецировано всё то, что нам недостаёт. Важное замечание Ж. Бодрийяра: «Любая вещь может быть проанализирована… с точки зрения того, как мы присваиваем себе то самое измерение, где находим свою объективную ограниченность» [3, с. 81].
Коммуникативные свойства вещи: вещь как оповещатель
В своём веществовании вещь артикулирует множество значений, то отрываясь от своей материальной данности, то возвращаясь к ней. И только в контрасте этих переходов вещь становится, по-настоящему, отличимой и социально значимой. Для того чтобы жить, вещи нужно всякий раз исчезать, чтобы затем вновь перейти от ничто к нечто , от необходимого к возможному, от отсутствия к присутствию. «”Веществовать” значит не просто быть вещью, являться ею, но становиться ею, приобретать статус вещи, отличаясь от вещеобразного нечто, к которому не применим предикат веществования. Но “веществовать” значит и оповещать о вещи, т. е. преодолевать её вещность, превращаясь в знак вещи» и, дистанцируясь от своего материально-природного субстрата» [18, с.70]. «Это мистическое проникновение в суть вещи, в её «реальные» данности и её мыслимые потенции, - пишет В.Н. Топоров, - уже намечает оба пути в познании вещи — внутрь её, в самую гущу «вещного», взятого в сугубо эмпирическом плане, и вовне её, до того уже не «вещного», а «духовного» слоя, на который вещь может проецироваться, оставляя на нем свои следы, и который предполагает скорее теоретический подход к проблеме вещи» [18, с. 87].
Знаковая природа вещи помещает её в семантическое поле интерактивных взаимодействий, формирует её язык, с помощью которого вещь включается в систему культурной коммуникации. Вещь опредмечивает коммуникативный процесс, маркирует и наполняет его смыслообразами. Вещь в отличие от человека никогда не пребывает в одиночестве, ибо вещь всегда создаётся кем-то и для кого-то, выражает что-то и для чего-то, служит чему-то и кому-то. Вещь – заполненное бытие и потому так желанно и радостно для человека. Там, где вещь, там намёк, искушение, встреча и откровение, иначе говоря, событие. Но у всякого события есть своя драматургия, свои герои, свой сюжет и символический образ. Именно в этом окружении и посредством человека вещи начинают по-настоящему жить – проектировать и глаголить, дарить и отбирать, творить и разрушать. В отличие от обычных материальных субстанций природного мира вещь аккумулирует в себе следы человеческой деятельности, она продукт культуротворчества, своего рода личностно-ориентированное произведение. В материальной оболочке вещи, её форме, образе, имени, свойствах и значениях как бы спрессованы все человеческие качества, её социальная подоплёка (VI). Вещь словно поглощает человека, накрепко сжимая порождающую её культуру в дискретных замкнутых объятиях своей новоявленной телесности. Телесность вещи удерживает то, что в неё заложено. Но существование вещи невозможно без разрыва и разрушения той материальной субстанции, которая поглотила и замкнула в себе деятельность человека. Предмет, сделанный человеком, не может вернуться к человеку, не оторвавшись от своего немого покрова, без выхода из себя самого себя. Сам по себе материальный объект ещё не есть вещь. Объект, становящийся вещью, наделяется даром голоса, слова (VII) позволяющим ему глаголить, вещать, т.е. выставлять себя или заявлять о себе, т.е. быть увиденным и услышанным. Только тогда, когда объект начинает вещать, т.е. высвечивать знаки и вещевать (по В.И. Далю предчувствовать, пересуживать, предвещать) он становится вещью (VIII). По этой причине в каждой вещи таится человек, в каждом человеке – вещь. Антропологическая природа вещи обуславливает все её семантические свойства. А.В. Лосев рассматривает вещи как символы самого самого, которые «будучи тайной, суть положительные реальности, оплодотворяющее собой бесконечное о них размышление и заставляющие подолгу – и часто мучительно и напряженно – в них всматриваться» [13, с. 460].
Здесь хочется указать на смысловую соотносимость понятий вещь и чудо. Примечательно, что этимологические трактовки вещи как явленного в материи слова и голоса смыкаются с основным значением понятия чудо. Чудо – общеславянского происхождения, образовано от чути («слышать, ощущать»). Слово чудо восходит к keudo , на иной ступени чередования выступающему в виде koudo , сохранившегося в кудесник [23, с.497]. Как не отметить в этом ряду и слово вещатель или вещий , т.е. тот, кому все ведомо, и кто вещает будущее - колдун, прорицатель, предсказатель (VIII).
Вещи притягивают друг друга, они не живут врозь. И сила этого притяжения в их единичности и в антропоцентрической зависимости. Вещь создаётся на открытом пространстве культуры – там, где возникает необходимость прочертить границы, осуществить переход, сигнифицировать действительность. Вещь приходит туда, где для человека есть отсутствие чего-то, и тогда, когда человек в чём-то нуждается. Привнесение вещи в культуру и её последующее функционирование следует понимать как процесс всецело связанный с расчленением и собиранием реальности. Это есть процесс наполнения культуры смыслами, формирования текста, культивации языка, освоения нового коммуникативного пространства. В этом видится эвристическая значимость вещи как объекта культурологического изучения. Как отмечает М.Н. Эпштейн, «реалогия есть наука о реализованном, т. е. расчлененном и наполненном вещами, пространстве, о его текстуальных свойствах, которые через описание обычных вещей – перекодируются в языковые тексты» [25, 350].
Человек создавая вещь, дополняет и модифицирует реальность, включает в структуру коммуникативных связей новые элементы взаимоотношения с обществом и природой. В этом коммуникативном действии человек и вещи начинают взаимообуславливать друг друга, где вещи приобретают качества человека, а человек свойства вещи. Так «между человеком и вещью совершается встречное движение и возрастание смыслов» [25, с.349].
Семантическое поле предметных артикуляций в культуре многомерно и неоднородно. Одна и та же вещь в системе культурной коммуникации может служить разным целям, выполнять разные функции, иметь различные статусы, значения и даже названия. Как полагает С.В. Чебанов, «существующее существует по-разному: одно дело существование стула как артефакта той или иной культуры, другое – существование его образа, в одном смысле существует треугольник как чертёжный инструмент, в другом – треугольник как геометрическая фигура. В культурологическом дискурсе вообще, и в культурологии профессиональной деятельности в частности, приходится иметь дело с единицами всех приведённых модальностей существования» [22, с.523].
К тому же и сама вещь есть предмет бесчисленных интерпретаций. В силу своей открытости миру культуры «вещь сама по себе гораздо больше, чем её проявления» [13, с.455]. Этим объясняется широкий спектр толкования и обозначения вещей и близких им понятий в современной языковой практике, которые часто не только расходятся, но и объединяются в своих значениях. Причём, как в разговорной речи, так и в научных текстах. Конечно, синонимическое использование понятий вещь, предмет, объект и артефакт в повседневной жизни вполне объяснимо и допустимо. Однако в сфере теоретических исследований и, в особенности, при разработке методологических принципов и когнитивных задач науки о вещах представляется необходимым верифицировать смысловые значения данных понятий, которые здесь выступают уже не просто как слова, но как термины и категории.
О вещах и понятиях, их сходстве и различиях
Возникает вопрос о различении и разграничении ключевых концептов реалогии. Применительно к науке о вещах, прежде всего, важно отличать содержательные проекции таких терминов как объект, предмет, вещь и артефакт. Действительно, в ряде случаев их значения могут совпадать, но, по существу, это слова имеют различные смысловые установки. Терминологические уточнения позволяют прочертить границы этих концептов, расширить понимание того, что скрывается за их словесным оформлением и какие аспекты в существовании предметного мира они отображают, что фиксируют, к чему отсылают.
Как подчёркивает М.Н. Эпштейн, « "предмет" требует в качестве дополнения неодушевленного существительного, а "вещь" - одушевленного. Мы говорим "предмет чего?" – производства, потребления, экспорта, изучения, обсуждения, разглядывания... но: "вещь чья?" – отца, сына, жены, подруги, попутчика...» [25, с.347]. Можно сказать и так. Объект выражает принадлежность к окружающей человека действительности, предмет относится к миру объектов, тогда как вещь соположена с миром субъектов. «Вещь выступает не как объект какого-либо воздействия, – пишет М.Н. Эпштейн, - но как принадлежность субъекта, "своя" для кого-либо. "Изделия", "товары", "раритеты", "экспонаты" - это, в сущности, разные виды предметов: предметы производства и потребления, купли и продажи, собирания и созерцания. Между предметом и вещью примерно такое же соотношение, как между индивидуальностью и личностью: первое -лишь возможность или "субстрат" второго. Предмет превращается в вещь лишь по мере своего духовного освоения, подобно тому как индивидуальность превращается в личность в ходе своего самосознания, самоопределения, напряженного саморазвития. Сравним еще: "он сделал хороший предмет" - "он сделал хорошую вещь". Первое означает -произвести что-то руками, второе - совершить какой-то поступок. В древнерусском языке слово "вещь" исконно значило "дело", "поступок", "свершение", "слово"- и это значение, привходящее и в современную интуицию вещи. В каждом предмете дремлет что-то "вещее", след или возможность какого-то человеческого свершения...» [25, с.347].
В содержательном плане понятия объект, предмет, вещь и артефакт, можно когнитивно развести следующим образом. Объект – это внешняя, преимущественно, ещё не освоенная человеком, материальная реальность, или направленная на неё цель практического воздействия субъекта. Объект, подразумевает то, что на него нацелено, что «просматривается» и «читается» в «объективе» наблюдения со стороны смотровой площадки культуры. Не случайно, в английском языке слово object имеет одно из основных своих значений цель, намерение. Предмет – любой конкретный материальный факт, существующий как вместилище каких-либо свойств и качеств и являющийся объектом чьей-либо культурно значимой деятельности (IX). Вещь - объективированный портативный артефакт, выражающий своим материальным обликом определённый культурный смысл, т.е. нормативно обеспечивающий связи и отношения предмета с социальной средой или, иными словами, рукотворный объект, обслуживающий определённую потребность человека. Наиболее близким вещи по своему содержанию понятием является артефакт. Данный термин получил широкое распространение, придя в культурологию из археологии. Под артефактом понимается любой материальный предмет, модифицированный наложенными человеком признаками [30, p.145]. В понятие артефакт включаются как отдельные черты рукотворного объекта, так и целые объекты, структуры, материальные следы человеческой деятельности [4, c.35].
Иными словами, отмеченное разграничение терминов объект , предмет и вещь определённо указывает на их понятийно-смысловые спецификации. Объект – это материальная реальность или обособленная данность (конкрет), ещё непреобразованная человеком, но к которой уже устремлена мысль и которая выступает «ожидающей» стать предметом. Предмет - это преобразованный, так или иначе, распознанный человеком конкретный объект, чьи свойства и характеристики обретают для человека специфическую функциональную значимость. Вещь можно определить как социализированный или окультуренный единичный материальный предмет, обретающий индивидуальную форму, зафиксированный в установившемся самоназвании ( реноме вещи). Вещь – это предмет, ОБРАЗующий узнаваемый облик, опоВЕЩАющий о своём назначении и РЕАлизующий (от лат. realis – вещественный) свои функции для удовлетворения конкретных потребностей человека. Если объект есть обозначенная мыслью, т.е. вычлененная из внешней реальности, природная (физическая) данность, а предмет есть селективный, отобранный и идентифицированный означиваемый объект, то вещь – это преобразованный и присвоенный человеком предмет, обретающий свою индивидуальную ценность .
Итак, объект есть освоенная мыслью и скреплённая материей природа (физическая данность), предмет есть освоенный мыслью объект, вещь – это освоенный культурой предмет. Мир выступает для человека в виде объектов, объекты в виде предметов, предметы в виде вещи. Можно утверждать, что природа обретает своё высшее проявление в форме объектов, объекты, достигают своего высшего преломления, становясь предметами, а предметы находят свою завершённость и полноту бытия для человека, трансформируясь в вещи.
В определённом смысле объект – предмет – вещь соотносятся друг с другом, аналогично ряду соподчинённых понятий данность – значимость – ценность и индивидуум-индивидуальность-личность, и в этом контексте вещь может позиционироваться как социализированный предмет.
Всё вышеобозначенное позволяет рассматривать науку о вещах не только как перспективное направление гуманитарных исследований, но и как актуальную область когнитивно-теоретических и понятийнотерминологических прояснений.
Список литературы Вещи в пространстве культуры: предметы, меняющие мир
- Анарина Н. Г. Сакральная телесность японской художественной вещи//Вещь в японской культуре. -М.: Восточная литература, 2003. -С. 185-201.
- Бодрийяр Ж. Пароли. От фрагмента к фрагменту. -Екатеринбург: У-Фактория, 2006. -200 с.
- Бодрийар Ж. Система вещей. Пер. с фр.: С. Зенкина. -М.: Рудомино, 1995. -168 с.
- Бочкарёв В. С. К вопросу о системе основных археологических понятий/Предмет и объект археологии и вопросы методики археологических исследований. Материалы симпозиума. -Л.: Наука,1975. -С.34-42
- Бычков В.В. Вещь//Лексикон нон-классик. Художественно-эстетическая культура XX века. -М.: РОССПЭН, 2003. -C.107-108
- Генисаретский О.И. Упражнения в сути дела. -М.: Русский мир, 1993. -280 с.
- Делёз Ж. Кино. Кино 1: Образ-движение; Кино 2: Образ-время. -М.: Ад Маргинем, 2004. -623 с.
- Ионесов В.И. Всемирное наследие в дискурсе культурно-антропологического знания//Наследие и гуманизм: культурная антропология на службе человечества. -Самара: Самарская государственная академия культуры и искусств; Век #21, 2010. -С.58-87
- Ионесов В.И. Вещи, которые движутся, или бытие на границах//Трансформации: риск, кризис, адаптация. -Самара: Самарское культурологическое общество; Век #21, 2008. -165-175 с.
- Кемеров В.Е. Вещи//Социальная философия: Словарь. -М.: Академический Проект, 2003. -С.41-44
- Классификация в археологии. Терминологический словарь-справочник/Ред. В.С. Бочкарёв. -М.: ИА АН СССР, 1990. -156 с.
- Клейн Л.С. Археологические источники. -Л.: Издательство Ленинградского университета, 1978. -120 с.
- Лосев А.Ф. Самое само: Сочинения. -М.: ЭКСМО-ПРЕСС, 1999. -1024 с.
- Неретина С.С., Огурцов А.П. Символизм//Теоретическая культурология. -М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга; РИК, 2005. -C.227-234
- Ортега-и-Гассет. Х. Избранные труды. -М.: Весь мир, 1997. -704 с.
- Сартр Ж.-П. Тошнота: Избр. произведения. -М.: Республика, 1994. -496 с.
- Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического. -М.: Прогресс, 1995. -634 с.
- Топоров В.Н. Вещь в антропоцентрической перспективе//Aequinox. -М.: 1993. -С. 70-94.
- Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. В 4-х тт. Т.1. -М.: Прогресс, 1986, -576 с.
- Хайдеггер М. Вещь//М. Хайдеггер. Время и бытие/Пер. с франц. В.В. Бибихин. -М.: Республика, 1993. -448 с.
- Хайдеггер М. Поворот//Новая технократическая волна на Западе. -М.: Прогресс, 1986. -С.85-92
- Чебанов С.В. Мнимость как базовая категория онтики//Теоретическая культурология. -М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга; РИК, 2005. -C.523-527
- Шанский Н.М., Иванов В.В., Шанская Т.В. Краткий этимологический словарь русского языка. -М.: Просвещение, 1971. -542 с.
- Щапова Ю.Л. Введение в вещеведение. -М.: Издательство МГУ, 2000. -144 с.
- Эпштейн М. Реалогия, вещеведение//Проективный философский словарь: Новые термины и понятия/Под ред. Г. Л. Тульчинского и М.Н. Эпштейна. -СПб.: Алетейя, 2003. -С.346-350
- Эпштейн М. Вещь и слово. К проекту "лирического музея" или "мемориала вещей". Вещь в искусстве. Материалы научной конференции. 1984. -Вып. ХVII. -М.: Советский художник, 1986. -С. 302-324
- Эпштейн М. Реалогия -наука о вещах. Декоративное искусство, 1985, №6. -С. 2122, 44
- Appadurai A. The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective Cambridge Studies in Social and Cultural Anthropology. -Cambridge: Cambridge University Press, 1988. -344 p.
- Aurelius Augustinus Hipponensis Episcopus. De Doctrina Christiana//Patrologiae Cursus Completes. Series Latina. Acc. J.-P. Migne. T.34. Col.115-122
- Clarke D.L. Analytical Archaeology. -London, Methuen, 1968. -684 p.
- Miller D. Stuff. -London: Polity, 2009. -220 p.
- Heidegger M. Das Ding//Heidegger M. Vortage und Ayfsätze. -Pfullingen, 1959. -S. 163-185.