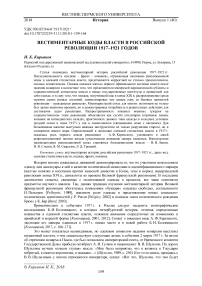Вестиментарные коды власти в российской революции 1917-1921 годов
Автор: Кирьянов И.К.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Символическое и политическое 1917 года
Статья в выпуске: 1 (40), 2018 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена вестиментарной истории российской революции 1917- 1921 гг. Последовательность "пиджак - френч - кожанка", отражающая эволюцию революционной моды и одежной стилистики власти, представляется корректной не столько хронологически, сколько семиотически. Пиджак оказался частью первого официального костюма власти после падения монархии и вследствие того, что представители имперской парламентской субэлиты и социалистической контрэлиты вошли в новые государственные институты в привычной для себя одежде, и в силу того, что пиджак, получивший еще в конце XIX в. распространение среди мужчин самых разных сословий, символизировал тем самым одну из базовых ценностей революции - гражданское равенство. Милитаристский стиль для многих политиков не только был данью военному времени, но и демонстрировал потребность в решительных действиях для достижения задач революции. Распространенность кожаных военных тужурок на социалистическом этапе революции объясняется как сугубо утилитарно (огромные запасы кожанок на интендантских складах, практичность данного типа одежды в холодных условиях поздней осени и зимы 1917 г.), так и символически (связыванием кожи с насилием). Для большевиков насилие выступало важным инструментом не только разрушения старого, но и сотворения нового мира. Определяющей в эволюции одежной стилистики власти в 1917 г. оказалась роль первого вождя революции - А. Ф. Керенского, уделявшего в своей репрезентационной тактике весьма существенное внимание манере одеваться. Впоследствии законодателями революционной моды становятся большевистские вожди - В. И. Ленин, И. В. Сталин, Я. М. Свердлов, Л. Д. Троцкий.
Вестиментарная история, российская революция 1917- 1921 гг, дресс - код, одежная стилистика власти, пиджак, френч, кожанка
Короткий адрес: https://sciup.org/147203850
IDR: 147203850 | УДК: 930.85:94(4)"1917/1921" | DOI: 10.17072/2219-3111-2018-1-159-164
Текст научной статьи Вестиментарные коды власти в российской революции 1917-1921 годов
История многих социальных движений демонстрировала то, что их участники использовали одежду или аксессуары к ней в качестве политической символики и идентификационного маркера (желтые повязки в восстании против ханьской династии в Китае, гезы в период нидерландской революции конца XVI в., санкюлоты во времена Великой французской революции). В последние десятилетия сюжеты, связанные с политизацией одежды в прошлом, все чаще становятся предметом научного анализа. Так, давняя традиция изучения вестиментарной истории Великой французской революции обогатилась появлением «букваря» «одежды свободы», составленного Н. Пельгрен [ Pellegrin , 1989], анализом роли одежды в представлении новых социальнополитических идентичностей у Р. Ригли [ Wrigley , 2002] и поиском «акта политического рождения брюк» у К. Бар [ Bard , 2010].
Применительно к событиям 1917 г. в России следует выделить монографические исследования Б. И. Колоницкого, в которых петербургский историк, отмечая определенные новшества в одежной стилистике власти, основное внимание сосредоточил на изменениях в армейской и морской форме [ Колоницкий , 2001, 2012]. Сюжет о внешнем виде А. Ф. Керенского, эволюции его манеры одеваться в 1917 г. нашел место и в новой работе Б. И. Колоницкого [ Колоницкий , 2017, с. 166–171].
Это может показаться неожиданным, но одежным символом падения монархии выступил пиджачный костюм, о чем свидетельствует следующая деталь в событиях 2 марта 1917 г. За актом об отречении монарха в Псков, где был остановлен императорский поезд, от Временного комитета Государственной Думы прибыли октябрист А. И. Гучков и националист В. В. Шульгин. По дороге Шульгина мучила «совсем глупая» мысль: «Мне было неприятно, что я являюсь к Государю небритый, в смятом воротничке, в пиджаке…» ( Шульгин , 1989, с. 250). Кто-то из свиты, прощаясь с В. В. Шульгиным у вагона отрекшегося императора, сказал: «Вот что, Шульгин, что там будет
когда-нибудь, кто знает. Но этого “пиджачка“ мы вам не забудем» [ Иоффе , 2006, с. 201]. И не забыли. В частности, вдова великого князя Михаила Александровича, княгиня Н. С. Брасова, говорила видному деятелю эмиграции М. С. Маргулиесу о том, что В. В. Шульгин «нарочно не брился» и «надел самый грязный пиджак», когда «ехал к Царю, чтобы резче подчеркнуть свое издевательство над ним» [ Мельгунов , 1961, с. 233, прим.].
С. П. Мельгунов, современник событий, ставший их историком, комментируя данный эпизод, заметил, что В. В. Шульгин, «имевший, вероятно, несколько потрепанный вид после псковских перипетий, не избег обвинений в демагогической приспособляемости ко вкусам толпы» [Там же]. Между тем историк не учитывал того обстоятельства, что пиджак уже с десяток лет до описываемых событий выступал вариантом дресс-кода для отечественных публичных политиков. Его политическая примерка в России состоялась 27 апреля 1906 г. – в день открытия заседаний Государственной Думы, когда часть депутатов, стремясь подчеркнуть независимость нижней палаты отечественного парламента от самодержавия, явилась на торжественный прием в Зимний дворец в неформатных для официальных мероприятий пиджачных костюмах, среди которых современникам особенно запомнился «серый домашний пиджак» князя Г. Е. Львова ( Оболенский , 1925, с. 2).
Пиджачный костюм стал едва ли не обязательной формой одежды для государственных служащих сразу же после падения монархии и превратился в символ демократичности новой власти в период деятельности Временного правительства первого состава. По характеристике А. Ф. Керенского, это правительство было «в своем обиходе, в своих выступлениях слишком скромная, слишком простая, слишком доступная власть, <…> власть в пиджаке» ( Керенский , 1925, с. 2).
Следует отметить, что 4 марта П. Н. Милюков, желавший как можно скорее вступить в управление министерством иностранных дел, распорядился пригласить на следующий день товарищей министра, директоров департаментов и начальников политических отделов на собрание в ведомство, где он намеревался представиться им в качестве нового руководителя, при этом чиновникам предписывалось явиться именно в пиджачных костюмах ( Лопухин , 2009, с. 294). По воспоминаниям В. Д. Набокова, Мариинский дворец, в котором заседало до июня 1917 г. Временное правительство, «подвергся радикальному “опрощению“. В его роскошные залы хлынули толпы лохматых, небрежно одетых людей, в пиджаках и косоворотках самого пролетарского вида. Великолепные лакеи, сменив ливреи на серые тужурки, потеряли всю свою представительность» ( Набоков , 1991, с. 73). Контрадмирал А. Д. Бубнов, вспоминая о первой встрече в Малахитовом зале Зимнего дворца недавно назначенного Верховного главнокомандующего Л. Г. Корнилова с министрами Временного правительства, отмечал: «Одеты они были более чем небрежно и походили скорей на рабочих, чем на интеллигентных людей» ( Бубнов , 1995, с. 153).
«Доступность» власти, привлекательная для толпы на первых порах, по мнению многих современников, в скором времени стала умалять ее авторитет среди бывших подданных российского императора, в одночасье ставших гражданами свободной России. Далеко не случайно в «Новом сатириконе» в мае – июне 1917 г. появилось два фельетона, в которых А. Т. Аверченко и И. Я. Гуревич высмеивали внешний вид представителей демократического правительства, подчеркивая то, что обыватель в России привык к совершенно иному облику власти, намекая тем самым на сшибку архаики и новаций в политической культуре революционной поры.
И. Я. Гуревич от лица жены видного сановника старого режима выражал удивление следующего свойства: «Я могу все понять, но не понимаю только, как это жена министра допускает, чтобы он появлялся всюду в простой рабочей куртке. <…> Если у него нет камергерского мундира, то фрак же он может сшить! <…> Если у него нет лент, звезд и орденов, то он может же выхлопотать у французского или американского президента» (Гуревич, 1917, с. 12). А. Т. Аверченко в свою очередь иронизировал: «Вы помните, что такое были министры старого, проклятого Богом и людьми режима? Помните, какими они Юпитерами, какими Зевсами громовержцами держались. Перед ними ходили на цыпочках, перед ними склонялись. <…> В чем же дело?!!! Я вам скажу, только вы на меня не обижайтесь: все дело было в их мундирах, орденах, лентах и золотом шитье. И когда они в таком чучельном виде выходили перед толпой, все почтительно склоняли перед ними головы, и по рядам несся благоговейный шепот: “Министр идет, министр”. И важно проходил этакий позолоченный идол с каменным лицом, весь расцвеченный разноцветными балаболками, ленточками, крестиками, расшитый, расписанный, разрисованный – точь-в-точь та знаменитая писаная торба, которая, по свидетельству пословицы, так мила дурню. Граждане! Товарищи! Братья! Сделайте вывод: раз коллективному всероссийскому дурню нужна писаная торба (ибо неписаную он пренебрежительно тычет сапогом при каждом удобном случае) – так дайте ему эту “писаную торбу”. Министры, снимайте ваши скромные рабочие куртки, которые так умиляли первое время – снимайте свои затрапезные пиджаки! <…> Свободные русские товарищи еще не доросли до того, чтобы уважать благородную бедность наряда. Они недостойны этого символа братского единения с ними» (Аверченко, 1917, с. 7).
Между тем А. Ф. Керенский, экспериментируя со своим внешним видом, нашел принципиально иной вариант для вождя революции. Почитатель элегантного пиджака в бытность депутатом Государственной Думы, он в первые же дни революции стремительно «демократизировал» свой костюм. Данный «исторический» момент В. Д. Набоков датирует уже 2 марта: «Помню один его странный жест. Одет он был, как всегда (т.е. до того, как принял на себя роль “заложника демократии” во Вр. Правительстве): на нем был пиджак, а воротничок рубашки – крахмальный, с загнутыми углами. Он взялся за эти углы и отодрал их, так что получился, вместо франтовского, какой-то нарочито-пролетарский вид» ( Набоков , 1991, с. 16).
Вскоре Керенский отказался от пиджака, облачившись в полувоенную темную тужурку. Это переодевание Б. И. Колоницкий со ссылкой на дневниковую запись атташе французского посольства Л. де Робьена: «Одет он был в куртку, застегнутую до шеи, без твердого воротничка или галстука: не буржуа, не рабочий, не солдат», – интерпретирует как репрезентацию
«надклассовости» нового облика власти [ Колоницкий , 2017, с. 169].
Во время первой своей поездки на фронт в качестве военного министра он впервые примерил короткий военный френч английского образца. Позднее П. Н. Милюков, сравнивая внешний облик двух «революционных премьеров», признал преимущество за А. Ф. Керенским: «Надо признать, что выбор кн. Львова главой революционного правительства был столько же неудачен, сколько он был в свое время неизбежен. Гамлетовская нерешительность, прикрытая толстовским непротивленчеством и облеченная в слащаво-елейный официально-оптимистический стиль – это было прямо противоположно тому, что требовалось от революционного премьера. Керенский понял эту роль лучше. Он говаривал, что массы не умеют признавать власть “в пиджаке”. Он облекся во френч и очень быстро усвоил себе наполеоновские позы, повелительный тон, не допускающий возражений, гремящий голос, переходивший в нервический крик при попытке сопротивления, отрывистую рубленную речь в распоряжениях и торжественные карамзинские периоды в декларациях» ( Милюков , 1927, с. 82) (Ср. у В. В. Маяковского в поэме «Хорошо»: «Глаза у него Бонапартьи и цвета защитного френч».).
В российской армии китель–френч, имевший четыре накладных кармана с плоской складкой, появился в 1915 г. Данный тип военного обмундирования получил распространение среди гражданского населения во второй половине 1916 г. [ Хорошилова , 2012, с. 456], но стал модным во многом благодаря популярности А. Ф. Керенского. Так, в сентябре 1917 г. дамский «Вестник моды» поместил выкройку мужского жакета, представлявшего собой адаптированный к городским условиям френч, который отличался от классического образца более приталенным кроем и отсутствием нагрудных карманов (Вестник моды, 1917, № 19–20, с. 248, рис. 78) [ Демиденко , 2017, с. 123]. Впрочем, сам Керенский после корниловского мятежа все чаще появлялся на публике в пиджачном костюме. На это обратил внимание В. М. Пуришкевич в своем стихотворении «Зеркала», опубликованном в «Народном трибуне» 14 сентября:
Зеркала в тиши печальной
Зимнего дворца
Отражают лик нахальный
Бритого лица.
В каждом зале, без отличья
В каждом уголке
На свое глядит величье
Некто в пиджаке (Цит. по [ Иванов , 2011, с. 334]).
Одним из последователей милитаристского одежного стиля Керенского стал И. В. Сталин. Вероятно, в дни работы VI съезда РСДРП(б) будущий «вождь народов», выступивший с отчетным докладом ЦК и получивший наибольшее количество голосов из кандидатов, участвующих (первую тройку составили отсутствовавшие на съезде В. И. Ленин, Г. Е. Зиновьев, Л. Д. Троцкий) в выборе руководящего партийного органа, впервые примерил военную тужурку, или френч, по крайней мере, на фотографиях более раннего времени Сталин представлен в другом костюме. Э. C. Радзинский предложил следующую художественную интерпретацию данного сюжета в начальной части своей трилогии о Сталине, в главе «Коба примеряет костюм вождя»:
«Перед съездом выяснилось, что из одежды у него есть только ситцевая рубашка и старый лоснящийся, потертый пиджак. Он жил тогда у Аллилуевых. Постаревшая красавица мать Нади сказала решительно:
– В таком виде съезд проводить нельзя. Вы ведь теперь за главного.
Коба не удержался, важно улыбнулся.
Мать вместе с Надей отправились покупать костюм, рубашку и галстук.
Коба в новом костюме на голое тело стоял у зеркала. По обе стороны – Надя с галстуком и мать с рубашкой.
-
– Не надену, – твердил Коба. – Не уговаривайте! <…> Вот если бы придумать что-нибудь военное. Ведь мы начали великий поход. Поход за мировой Революцией… Сапоги и френч – вот что надо!
-
– Ну, это нетрудно, – обрадовалась мать Нади. – Мы вставим бортики у горла, выйдет наподобие френча Керенского.
Уже через день Коба стоял у зеркала в полувоенном френче и сапогах. И, глядя в зеркало, произносил речь:
-
– Мы выступили в поход – уничтожить старый мир. И создать новое небо и новые берега. Как учит нас товарищ Христос, “Я победил этот мир” <…>
Итак, у него было короткое имя, столь удобное для криков толпы – Сталин. И полувоенный костюм Вождя, с которым можно делать Историю...» [ Радзинский , 2012, с. 252–253].
Милитаристский стиль одежды станет доминирующим в среде большевистского руководства: постоянно носил френч И. В. Сталин, время от времени в него переодевался В. И. Ленин. (Кстати, до эвакуации в Тюмень именно во френче тело советского вождя находилось в мавзолее.) Устрашающую символику приобрели кожаные куртки, в которые облачились не только представители силовых структур новой власти («наганно-кожаные личности» в «Даре» у В. В. Набокова или знаменитая «кожаная сотня» Л. Д. Троцкого.), но и многие советские лидеры той поры, в частности, Я. М. Свердлов, Л. Д. Троцкий, А. В. Луначарский.
Последовательность «пиджак – френч – кожанка», отражающая эволюцию революционной моды, представляется корректной не столько хронологически, сколько семиотически. Так, В. И. Ленин и В. М. Молотов на протяжении всех революционных лет донашивали свои старые пиджаки; В. М. Пуришкевич, будучи облаченным в военную тужурку, произнес 19 ноября 1916 г. свою знаменитую думскую речь о «темных силах»; уже 28 февраля 1917 г. известным отечественным фотомастером Я. В. Штейнбергом на нескольких снимках запечатлен милиционер в кожаной куртке и форменной фуражке студентов Технологического института.
Пиджак оказался первым официальным костюмом власти после падения монархии и вследствие того, что представители имперской парламентской субэлиты и социалистической контрэлиты вошли в новые государственные институты в привычной для себя одежде, и в силу того, что пиджак, получивший еще в конце XIX в. распространение среди мужчин самых разных сословий, символизировал тем самым одну из базовых ценностей революции – гражданское равенство.
Милитаристский стиль для многих политиков не только был данью военному времени, но и демонстрировал потребность в решительных действиях для достижения задач революции. Например, член Государственного Совета по выборам Н. П. Савицкий, назначенный 24 марта первым штатским главноначальствующим Архангельска и Беломорского водного района, получил прозвища «тормоз Вестингауза» и «человек в пиджаке» за нерешительность и нерасторопность, свойственные, по мнению военных, в делах управления гражданским лицам (см. [Новикова, 2011, с. 49–50]). В свою очередь распространенность кожаных военных тужурок на социалистическом этапе революции объясняется как сугубо утилитарно (огромные запасы кожанок на интендантских складах, практичность данного типа одежды в холодных условиях поздней осени и зимы 1917 г.), так и символически (связыванием кожи с насилием). Для большевиков насилие выступало важным инструментом не только разрушения старого, но и сотворения нового мира.
Список литературы Вестиментарные коды власти в российской революции 1917-1921 годов
- Демиденко Ю. Петроград. Мода. 1917//Теория моды: одежда, тело, культура. 2017. № 45. С. 111 -125
- Иванов А. А. Владимир Пуришкевич: Опыт политической биографии правого политика (1870-1920). М.; СПб.: Альянс -Архео, 2011. 441 с
- Иоффе Г. Василий Витальевич Шульгин. 1878-1976//Новый журнал. 2006. Кн. 242. С. 189 -201
- Колоницкий Б. И. Погоны и борьба за власть в 1917 г. СПб.: Остров, 2001. 84 с
- Колоницкий Б. И. Символы власти и борьба за власть: к изучению политической культуры российской революции 1917 г. СПб.: Лики России, 2012. -336 с
- Колоницкий Б. И. "Товарищ Керенский": антимонархическая революция и формирование культа ©вождя народаª (март -июнь 1917 г.). М.: Нов. лит. обозрение, 2017. 520 с
- Мельгунов С. П. Мартовские дни 1917 г. Париж: Б. и., 1961. 453 с
- Новикова Л. Г. Провинциальная ©контрреволюцияª: Белое движение и Гражданская война на русском Севере, 1917 -1920. М.: Нов. лит. обозрение, 2011. 384 с
- Радзинский Э. Апокалипсис от Кобы. Иосиф Сталин. Начало. М.: Астрель, 2012. 204 с
- Хорошилова О. А. Костюм и мода Российской империи. Эпоха Николая II. М.: Этерна, 2012. 464 с
- Bard C. Une histoire politique du pantalon. Paris: Seuil, 2010. 392 p. (Рус. изд.: Бар К. Политическая история брюк. М.: Нов. лит. обозрение, 2015. 320 с.)
- Pellegrin N. Les Vêtements de la liberté. Abécédaire des pratiques vestimentaires françaises de 1780 â 1800. Aix-en-Provence: Alinéa, 1989. 207 p
- Wrigley R. The Politics of Appearances: Representations of Dress in Revolutionary France. New York: Berg, 2002. 332 p