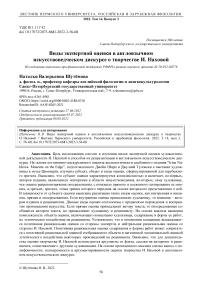Виды экспертной оценки в англоязычном искусствоведческом дискурсе о творчестве И. Наховой
Автор: Шутмова Наталья Валерьевна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Язык, культура, общество
Статья в выпуске: 3 т.14, 2022 года.
Бесплатный доступ
Цель исследования состоит в изучении видов экспертной оценки художественной деятельности И. Наховой и способов их репрезентации в англоязычном искусствоведческом дискурсе. На основе когнитивно-дискурсивного анализа аксиологичности альбомного издания “Irina Nakhova. Museum on the Edge”, подготовленного Джейн Шарп и Джулией Туловски к выставке художницы в музее Циммерли, изучены субъект, объект и виды оценки, сформулированной для зарубежного зрителя. Выявлено, что субъект оценки характеризуется комплексностью и включает, во-первых, авторов издания, являющихся экспертами в области искусствоведения, во-вторых, саму художницу, чья оценка репрезентирована опосредованно, с помощью прямого и косвенного цитирования ее мнения, в-третьих, зрителя, точка зрения которого передана на основе авторского представления о ней. В зависимости от субъекта оценки выявлена реализация таких видов оценки, как внутренняя и внешняя, прямая и опосредованная. Если внутренняя оценка принадлежит художнику, то внешняя - авторам издания и реципиентам. Данные виды оценки соотносимы с процессами порождения и восприятия произведения искусства. Если прямая оценка принадлежит автору текста, то опосредованная сообщается автором текста, но принадлежит художнику и реципиенту. На основе анализа выявлена комплексность объекта оценки, включающего концепцию художницы, содержание и форму ее работ, их эстетическое воздействие на реципиента. Установлено, что в отношении концепции высказывается позитивная рациональная оценка со стороны экспертов и нейтральная рациональная оценка со стороны И. Наховой. Позитивная рациональная оценка содержания и формы работ может сопрягаться с негативной рациональной оценкой изображаемого объекта и негативной эмоциональной оценкой эстетического воздействия некоторых произведений на реципиента. Выявлено, что для доказательства оценки творчества И. Наховой используются аргументы от факта, ссылки на авторитет и реципиента, сопоставление с другими художниками. На основе проведенного анализа сделан вывод о полифоничности, полихромности и аргументированности оценки творчества И. Наховой в англоязычном искусствоведческом дискурсе.
Англоязычный искусствоведческий дискурс, творчество и. наховой, экспертная оценка, оценка внутренняя и внешняя, оценка прямая и опосредованная, рациональная позитивная оценка, рациональная нейтральная, аргументация оценки, средства репрезентации категории оценки, рационально-эмоциональная негативная оценка
Короткий адрес: https://sciup.org/147238642
IDR: 147238642 | УДК: 811.111'42 | DOI: 10.17072/2073-6681-2022-3-56-68
Текст научной статьи Виды экспертной оценки в англоязычном искусствоведческом дискурсе о творчестве И. Наховой
Аксиологичность составляет один из основных аспектов разных типов деятельности человека, связанный с анализом свойств объекта и формированием отношения к нему. Фундаментальный характер данной категории, ее реализация в широком спектре видов коммуникации и дискурса обусловливают актуальность ее исследования. При рассмотрении категории оценки мы основываемся на ее трактовке, которая имеет философские истоки и сложилась в лингвистике под влиянием когнитивной парадигмы. С этой точки зрения оценка определяется как сопряженная с познанием деятельность, состоящая в осмыслении ценности объекта [Болдырев 2019; Петухова, Хомякова 2020; Скаженик 2002; Шпякина 2005; Klevan 2018]. Это объясняет сложившуюся в лингвистике традицию выделять модальную рамку, включающую субъекта, объекта и шкалу оценки. Языковая объективация оценочной деятельности человека обусловила ее рассмотрение в лингвистике как «совокупности разноуровневых языковых единиц, объединенных оценочной семантикой и выражающих положительное или отрицательное отношение автора к содержанию речи» [Баженова 2003: 139]. При этом по принципу реализации категорий «добро / зло» выделяется оценка этическая, на основе репрезентации категорий «прекрасное / безобразное», «комическое / трагическое», «возвышенное / сниженное» – оценка эстетическая, с точки зрения степени практической пользы – оценка утилитарная, в зависимости от наличия рационального и эмоционального компонентов – соответствующие виды оценки, в аспекте отношения к объекту – позитивная, нейтральная и негативная, в зависимости от выражения одного или более видов оценки в дискурсе – оценка одно- и биполярная [Арутюнова 1998, 1999; Вольф 2005; Ивин 1970; Маркелова 2013; Хомякова 2020a; Телия 1986]. Несмотря на плодотворное изучение системы языковых средств репрезентации оценки, актуальными остаются вопросы, связанные с пониманием ее природы, изучением специфики реализации в дискурсе в зависимости от типа сознания и мышления адресата, его интенций, условий и задач коммуникации, осмыслением системы ценностей, лежащих в основе аксиологической деятельности представителей разных культур, выявлением роли в трансфере знания [Баженова 2003; Белоножко 2013; Данилевская 2009; Демьянков 2016; Котюрова 2019; Красильникова 1999; Матвеева 1990; Пашкова
2021; Пермякова 1997; Сретенская 1994; Фролова 2016; Хомякова 2020б; Петухова 2017; Hart, Lukeš 2007; Roose, Roose, Daenekindt 2018; Van Dijk 2009, 2014; Verschueren 1999].
В данной статье мы обратимся к рассмотрению аксиологичности искусствоведческого дискурса, который трактуется нами как «вербально опосредованная деятельность» [Алексеева, Ми-шланова 2002: 3] в сфере искусства, включая его теорию, практику, историю, критику, дидактику. Аксиологичность является одним из его основных свойств, получающим освещение в современной лингвистике с когнитивно-дискурсивных, коммуникативно-прагматических, лингвокультурологических позиций [Аксенова, Денисова, Магнес 2022; Денисова 2021; Емельянова 2021; Мячинская 2020; Петухова 2021; Петухова, Соколова, Хомякова 2021; Хомякова 2021]. Полагаем, что аксиологичность искусствоведческого дискурса обусловлена сопряжением познания и оценки в широком спектре процессов порождения произведения искусства автором и восприятия художественного объекта реципиентами. Так, в аспекте порождения данное сопряжение происходит при художественном познании ценностного аспекта отношения «человек – мир» [Бахтин 1979; Каган 1997], осмыслении любого объекта как эстетического и формировании художественной концепции. В аспекте восприятия произведения искусства оценка связана, например, с анализом его содержания и формы, жанра, философско-эстетических взглядов автора и его творческого пути, своеобразия художественного течения, направления, культуры и эпохи. Реципиентов в зависимости от уровня их компетентности можно квалифицировать как носителей «специального» и «наивного» знания [Алексеева, Мишланова 2002: 105], а формируемую ими оценку – как экспертную, или профессиональную, и наивную соответственно.
С этой точки зрения рассмотрим реализацию категории оценки в англоязычном дискурсе, освещающем творчество И. Наховой, являющейся одним из представителей московского концептуализма, повлиявшего на развитие искусства в России в XX–XXI вв. и получившего неоднозначную оценочную интерпретацию в отечественном и зарубежном искусствознании в советский и постсоветский периоды. Цель исследования состоит в изучении видов экспертной оценки художественной деятельности И. Нахо-вой и способов их репрезентации в англоязыч- ном искусствоведческом дискурсе, где искусство России прошлого столетия является одной из релевантных тем [Basin, Glatigny, Piotrowski 2016; Dickerman 2000; Hardiman, Kozicharow 2017; Hart, Lukess 2007; Bonnell 1998; Bowlt 1977; Klevan 2018; Other Voices 2011; Rusnock 2010; Tatourina 2018; Victoria and Albert Museum; Walsworth 2017]. Материалом анализа в данной статье послужило альбомное издание “Irina Na-khova. Museum on the Edge”, которое было приурочено к культурному событию, организованному в Художественном музее Циммерли при университете Ратгерс в Нью-Брансуике, штат Нью Джерси, и опубликовано в 2019 г. Издание включает аналитические статьи искусствоведов о творчестве художницы, интервью с ней и репродукции работ, представленных на выставке. Для достижения цели исследования нами был использован комплекс общенаучных и специальных методов, основными из которых стали наблюдение, описание, классификация, индукция, дедукция, интерпретация, семантический, контекстуальный, стилистический, сопоставительный анализ.
Субъектом оценки в обозначенном издании выступают его авторы – Джейн Шарп и Джулия Туловски (Jane A. Sharp, Julia Tulovsky), которые являются докторами наук в области искусствоведения и в этом смысле носителями специального знания. В качестве объекта оценки выступают художественная концепция И. Наховой, ее реализация в произведениях и их роль в истории изобразительного искусства России ХХ– ХХI вв. Проанализируем, каким образом категория оценки репрезентируется в рассматриваемом издании.
Прежде всего необходимо отметить, что анализ и интерпретация эстетических взглядов художника и ее произведений сопровождаются позитивной оценкой, которая является доминирующей. Подчеркнем, что она эксплицируется уже во введении, где характеризуется место творчества И. Наховой в советском нонконформистском искусстве, которое получило признание в России и за рубежом. Уникальность и значимость роли художника репрезентируется посредством эпитетов uniqu e и prominent :
-
• Nakhova occupies a unique place in the history of Soviet nonconformist, Russian, and American art [Sharp, Tulovsky 2019: 10];
-
• Nakhova played a prominent role in Moscow’s unofficial art world and at times participated in performances and actions during the late 1970s and early 1980s [ibid.].
В отличие от компонентов синонимического ряда strange, singular, unique, odd, queer, quaint, eccentric, erratic, peculiar, outlandish, curious, где доминантным является прилагательное strange, а общим – значение «отличающийся от обычного или ожидаемого и поэтому вызывающий определенную эмоциональную реакцию или трудный для осмысления» [АРСС 1979: 421], прилагательное unique номинирует объект, не только отличный от других, но и единственный в своем роде, при этом данное качество не является непонятным и трудно объяснимым. С одной стороны, это отличает его от наиболее близкого по семантике синонима singular, который «называет такое отклонение от обычного, которое выделяет носителя данного свойства среди всех других» [там же]. С другой стороны, оно отличается по характеру обозначаемого свойства, его степени и воздействию от доминанты strange, которая обозначает свойство субъекта или объекта, «вызывающе удивление или недоумение своим несоответствием знакомому, понятному, обычному» [там же]. Кроме того, по данным критериям оно отличается и от группы синонимов odd, queer, quaint, используемых для характеристики отклонения от нормального и естественного, которое трудно объяснимо и кажется загадочным. Более того, по данным параметрам прилагательное unique отличается от синонимов eccentric и erratic, репрезентирующих не только мысль об отклонении от нормы, но и вызываемую им негативную реакцию, в частности «недоумение, смешанное с осуждением» [там же]. Таким образом, несмотря на нестандартность работ И. На-ховой, которые могут восприниматься реципиентом как не соответствующие «знакомому, понятному, обычному» [там же], посредством прилагательного unique уже во введении задается даваемая искусствоведами общая оценка произведений И. Наховой как единственных в своем роде, нестандартность которых имеет объяснение и не вызывает отрицательной реакции.
Прилагательное prominent входит в синонимический ряд important, big, major, significant, eminent, prominent, great , доминантой которого является important , а общим значением «свойство оказывать на других существенное воздействие или влияние» (“having great effect or influence”) [CD: эл. ресурс]. При этом семантически данный ряд подразделяется на 2 группы:
-
• “important, big, major, significant”,
-
• “eminent, prominent, great”.
Компоненты первой группы репрезентируют мысль о важности объекта. Например, как указывается в толковых словарях английского языка, significant означает: 1) «важный, заметный» (“important or noticeable”), 2) «имеющий особое значение» (“having a special meaning”) [ibid.], а “important” – существенное воздействие и влияние объекта на реципиента (“having great effect or influence”) [CD: эл. ресурс]. Сема «важный» в значении компонентов второй группы дополняется семой «известный», в частности, прилагательное prominent имеет следующие значения: 1) “known and recognized by many people”, 2) “having great effect or influence” [ibid.]. Таким образом, посредством эпитета prominent уже во введении эксперты репрезентируют позитивную оценку как значимости, так и известности художницы в кругах московских концептуалистов в конце 70-х – начале 80-х гг. ХХ в.
Данный вид оценки поддерживается во введении также посредством словосочетания now well-known , используемого для характеристики школы московского концептуализма, получившего известность в постсоветский период истории страны, а также прилагательного young , используемого в форме превосходной степени сравнения и подчеркивающего принадлежность И. Наховой к самым молодым представителям этого художественного течения (“She began working in the 1970s as one of the youngest members of the now well-known “school” of Moscow conceptualism”) [Sharp, Tulovsky 2019: 10].
Позитивная оценка творчества И. Наховой, заданная во введении, получает развернутую репрезентацию посредством аргументации. Авторами используются преимущественно сильные аргументы, к которым относится прежде всего апеллирование к фактам. Для доказательства уникальности работ художницы отмечается создание новаторской формы инсталляции, когда пространство жилой комнаты преобразовывалось в произведение искусства. Данный вид аргумента сопровождается также и ссылкой на авторитет: в частности, Дж. Шарп и Дж. Туловски подчеркивают, что такой вид инсталляций был позднее использован старшими концептуалистами, в том числе лидерами течения, включая И. Кабакова. К фактам, доказывающим известность художницы, авторы относят участие в многочисленных выставках в постсоветский период, на которых, несмотря на проживание части времени в США с 1991 г., И. Нахова, сохраняя гражданство России, представляла страну, например, на 56-й Венецианской биеннале в 2015 г. с инсталляционным проектом «Зеленый павильон» (“Since 1991, she has lived part of the time in the United States and has established herself in the West with multiple exhibitions and installations. At the same time, she maintains a residence and an art practice in Russia, which she represented in 2015 at the 56th Venice Biennale with the installation The Green Pavilion”) [ibid.].
С точки зрения композиционной динамики важно подчеркнуть, что эксплицированная во введении высокая экспертная оценка роли
И. Наховой получает последовательное развитие в основной части, которая посвящена оценочной интерпретации и доказательству уникальности концепции, реализуемой в работах художницы.
Ключевым в объяснении философско-эстетических взглядов И. Наховой является понятие диалога с историей искусства (“dialogue with art history”), являющееся ядром, вокруг которого выстраивается ее художественная система. Именно оно отличает, по оценке искусствоведов, творчество И. Наховой от произведений других представителей концептуализма. Для актуализации важности данного стержня при оценке работ И. Наховой используется ее сравнение с более старшими и молодыми коллегами. Кроме того, доказательство значимости выделения данного ядра при интерпретации и оценке творчества художницы включает сильный аргумент от факта в виде цитирования высказываний самой И. На-ховой, содержащих ее толкование своей концепции и рефлексию по поводу истории искусства, которая играет важную роль в контексте моральных и религиозных вопросов, скрытых за повседневным; с точки зрения художницы, она меньше прочего подлежит сомнению и ставит для творчества высокую планку, создавая возможности для персональных открытий (“Art history references are very important for my work… I doubt art history the least, because I see, I believe, and I live by the greatest examples of art that set very high bars for me. Art history lives in a place of utmost peace. It sits there quietly, waiting for personal discoveries”) [ibid.].
Данное понятие является отправной точкой для интерпретации и рациональной оценки таких понятий, входящих в художественную концепцию И. Наховой, как музей, время, побег, альтернативное пространство. Музей рассматривается в качестве особого пространства, где объекты, представляя прошлое для будущего в материалах настоящего, объединяют время. Оценка важной роли музея и объектов, создаваемых И. Наховой, актуализируется с помощью приема их противопоставления эре фейков и эфемерных сущностей, оформленного с помощью вопросительного высказывания (“In an era now dominated by ‘fake’ news and ephemeral items, what will serve to form an image of us, and how might our current material obsessions represent our culture to the future?”) [ibid.].
Кроме того, оценка места понятия музея в художественной системе И. Наховой осмысляется метафорически: музей уподобляется игровой площадке (“the museum as a playground”), месту на краю реальности (“a place on the edge of reality”), где возможно провести линию, соединяющую эпохи (“a place in which to think and to connect the dots between eras”). Также метафора игровой площадки развивается посредством ряда антитез, раскрывающих диапазон осмысляемых в музее понятий высокого и низкого, ценного и пустого, почитаемого и отторгаемого, истинного и ложного (“Using the museum as a playground, the artist can challenge concepts of high and low, treasure and trash, revered and rejected, truth and fraud”) [Sharp, Tulovsky 2019: 11].
Особо значимым, с точки зрения экспертов, является инновационный характер создаваемых ею объектов, заключающийся в соединении истории искусства с повседневностью, что интерпретируется авторами как сюрреалистическая коллажность смыслов (“By intruding into the lofty space of art history with these commonplace things, she transforms her works into surrealistic collages of meaning and concept”) [ibid.]. Такое сочетание возвышенного и обыденного трактуется искусствоведами как преодоление ограниченности нашего вклада в прошлое (“Nakhova’s highly mediated and manipulated images challenge the limits of our own investment in the past”) [ibid.]. Например, художественный эксперимент, состоящий в соединении не связанных между собой объектов в серии “Four Torsos” (1992), получает позитивную рациональную и эмоциональную оценку, репрезентированную прилагательными clever и unexpected [ibid.: 13], подчеркивающими, с одной стороны, продуманность идейной основы объектов, с другой – их способность удивлять зрителя, влиять на сферу его чувств.
Оценка произведений И. Наховой включает актуализацию их важной миссии, состоящей в осуществлении связи времен, а также в эстетическом воздействии, которое заключается в побуждении реципиента к размышлению о том, насколько важными музейные артефакты были во время их создания и что может оставить в музеях современное общество, ценящее обман и утилизируемость (“They cause the viewer to consider how essential the museums’ artifacts were in their own time and what will be important to preserve in museums from our own reality, so heavily based on deception and disposability”) [ibid.: 10].
В этой связи необходимо отметить, что свою оценку эксперты дополняют точкой зрения реципиента, у которого сочетание в объекте возвышенного и обыденного вызывает неожиданные ассоциации (“Nakhova often combines images from art history with mundane objects, forming unexpected connections and associations”) [ibid.: 11], обусловливая неопределенность и неоднозначность понимания произведения и культурных аллюзий.
Отметим, что для репрезентации оценки авторами используются приемы ритмизации выска- зывания. К ним относится перечислительный ряд антитез, названных выше, рекурренция существительного place в перечислительном ряду метафор, синтаксический параллелизм словосочетаний, включающих существительные, соединенные союзом and (“prompting the viewer to experience uncertainty and unpredictability of perception and interpretation both for the cultural references and for the work as a whole”) [ibid.], а также фонетический повтор, в частности созвучие начальных компонентов однородных членов предложений (“based on deception and disposability”, “uncertainty and unpredictability”) [ibid.]. Ритмизация традиционно используется для со- и противопоставления лексических единиц, способствующего актуализации их семантики и большего воздействия на реципиента.
По оценке экспертов, значимыми в концепции И. Наховой являются и связанные с понятием музея метафоры пространства ( space ) и побега ( escape ). При их позитивной оценке вновь используется прием сопоставления И. Наховой с другими представителями концептуализма (Эриком Булатовым, Эдуардом Гороховским, Олегом Васильевым и др.) для репрезентации мысли о сквозном характере идеи побега в творчестве этих художников. С одной стороны, сам музей осмысляется как пространство, где соединяются времена, с другой – подчеркивается значимость категории пространства в произведениях И. На-ховой. При аргументации данной оценки особая роль в интерпретации способов реализации категории пространства в произведениях художницы приписывается методу многослойных отсылок (“methodology of using multiple – multilayered – references”) [ibid.], позволяющему через объекты физического мира исследовать тесно взаимосвязанные пространства. Для репрезентации логической оценки свойств данных пространств используются такие эпитеты, как painterly , характеризующий пространство живописное, historical – историческое, cultural – культурное. Оценка своеобразия их взаимосвязи авторами выражается посредством эпитета, функцию которого выполняет наречие intricately , означающее сложность и утонченность комбинации частей, которые обусловливают трудности понимания целого.
Названные пространства интерпретируются как иные, параллельные, альтернативные миры, что репрезентируется посредством синонимов-уточнителей, в качестве которых выступают эпитеты, выраженные соответственно местоимением other и прилагательными alternative, parallel. Позитивная оценка метода многослойности связана с интерпретацией этих миров как пространств для побега и от абсурда советской цензуры (“an escape from a Soviet everyday life restricted by absurd rules”), и от абсурда западной массовой культуры, желтой прессы и лживой информации в медиа (“the absurdities of Western mass culture, yellow press, and false media reports”). Данные факторы получают в рассматриваемом издании негативную оценку, выражающую, с одной стороны, мнение искусствоведов, с другой – опосредованное ими мнение самого художника. Негативная оценка актуализируется посредством рекурренции оценочных лексических единиц, имеющих корень absurd, использования эпитета false, негативного по своей коннотации словосочетания yellow press.
Кроме того, при оценке идеи альтернативных миров в эстетике И. Наховой прослеживается значимость пустых живописных пространств, открывающих для реципиента возможность «путешествий» (“empty pictorial space where one could travel”), а также значимость предлагаемой реципиенту игры пространствами, которая заключается в возможности перемещения их частей относительно друг друга. В качестве аргументации от факта искусствоведы приводят ряд работ, в частности “Variable Landscape” (1983), “Scuffolding” (1984), “Double Vision” (1988), “Camping” (1994), “Skins” (2010), “Gaze” (2016– 2019), анализируя при этом динамику взглядов художницы во времени. Например, если первое полотно дает реципиенту возможность участвовать в игре пространством и изменять пейзаж, а во втором обыгрывается пустое пространство при изображении строительных лесов, то на третьей картине, сочетающей живописное, культурное и историческое пространства, совмещено изображение разрушенных русских церквей и архитектурного пейзажа античных руин.
Принцип многослойности прослеживается, по мнению экспертов, и в серии трехмерных объектов “Camping”, представляющей собой изображения античных и средневековых статуй на старых армейских раскладушках, которые трактуются экспертами вслед за И. Наховой в рамках ее концепции как уникальные, имеющие индивидуальную историю, а не готовые объекты, что репрезентируется посредством эпитетов unique и readymade , образующих антитезу. По мнению экспертов, такое соединение обыденного и возвышенного позволяет автору достичь двойной эффект, заключающийся в очеловечивании статуи и возвышении предмета быта до статуса античной скульптуры, что репрезентируется глаголами humanize и elevate соответственно, оформленными в синтаксически параллельные структуры humanizes the statue и elevates the cot , ритмизирующими высказывание, обусловливая его суггестивность.
По мнению искусствоведов, наиболее противоречивое воздействие на реципиента оказывают экспонаты из серии “Skins”, в целостности которых репрезентируется эстетическая категория безобразного. Осмысление их содержания и формы, по мнению экспертов, вызывает у реципиента множество экзистенциальных вопросов, а для характеристики эстетики этих экспонатов искусствоведы используют лексику, которая выражает отрицательную эмоциональную оценку и обозначает, с одной стороны, доведенное до крайней степени проявление негативных свойств объектов (screaming (absurdity), pushed-to-the-edge kitsch), с другой – удручающее впечатление, производимое ими на зрителей (sobering effect on the viewer).
Серия “Gaze” представляет собой видеоролик, содержанием которого является обзор высококачественных изображений картин из коллекции Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, например картины Франсуа Буше «Геркулес и Омфала», основанный на изменении четкости деталей композиции, что отражает стратегии внимания при восприятии произведения искусства зрителем. При этом серия показывает восприятие одной и той же картины разными людьми: студентом, изучающим искусствоведение, ребенком и пожилым человеком. В данной серии, по мнению авторов, также репрезентируется идея побега, но, в отличие от названных выше работ, он осуществляется в микропространство, которое, однако, с точки зрения экспертов, не уступает по своей плотности и неопределенности пространству, создаваемому на других полотнах (“micro space, which, as the work testifies, might be as dense and infinite as her architectural multilayered landscapes”) [Sharp, Tulovsky 2019: 11]. Таким образом, оценка данной серии характеризуется сложной структурой субъекта, включающего искусствоведов, художника, зрителя. Во-первых, анализ объектов репрезентирует их оценку, выносимую искусствоведами. Во-вторых, выражается опосредованное ими отношение самого художника к содержанию и форме этих объектов. В-третьих, репрезентируется опосредованное мнением художника зрительское восприятие других произведений искусства. Таким образом, сложностью характеризуется и объект оценки, в качестве которого выступает форма объектов, материализованная в них концепция И. Наховой, произведения других художников, процесс их восприятия реципиентом.
В целом вклад И. Наховой в продвижение ценности музея в современном мире оценивается искусствоведами как значимый. Его позитивная оценка репрезентирована посредством метафоры «края», к которому ее творчество подталкивает наше представление о музее (“pushes our notion of a museum to the edge”). Посредством контекстуально положительно окрашенных глаголов broadens and deepens выражается мысль о влиянии творчества И. Наховой на расширение и углубление понимания исключительной важности музея во времена, когда реальность во многом подменяется виртуальностью и фиктивна. Позитивная оценка вклада художника получает дополнительную актуализацию с помощью приема противопоставления музея и реальности, при этом культурная значимость первого выражена с помощью эпитета foremost, а негативная оценка виртуальности, утилитарности, фальшивости второй репрезентирована посредством эпитетов virtual, disposable, bogus.
Таким образом, на основе проведенного анализа можно заключить, что оценка творчества И. Наховой в рассматриваемом издании характеризуется комплексностью субъекта и объекта, разнообразием ее видов, способов аргументации и стилистических средств репрезентации. Основным субъектом оценки являются авторы издания, являющиеся экспертами в области искусствоведения. Опосредованно в качестве субъектов оценки выступают также художница и зритель. Оценка первой сообщается через прямое и косвенное цитирование ее высказываний. Оценка второго сообщается на основе представления, сформированного искусствоведами.
В зависимости от субъекта оценки в рассматриваемом материале можно выделить такие реализуемые в нем виды оценки, как внутренняя и внешняя. К первой относится оценка, данная самим автором произведения искусства. Этот вид оценки соотносится с процессом его создания. Ко второй относится оценка, данная искусствоведами на основе анализа художественного объекта, и оценка реципиентная, представляющая точку зрения зрителя. Данные виды оценки соотносятся с процессом восприятия художественного произведения. Сочетание разных субъектов оценки в одном тексте обусловливает его аксиологическую полифонию, в которой в зависимости от соотношения оценок возможен аксиологический консонанс или диссонанс.
По способу репрезентации субъекта оценки в рассматриваемом издании можно выделить такие виды оценки, как прямая и опосредованная. Если первая принадлежит основному лицу, являющемуся автором текста, то вторая является оценкой, данной художником и реципиентом, но сообщаемой автором текста. При этом она может быть репрезентирована посредством прямого цитирования, косвенной речи или интерпретации.
Рассмотренный объект оценки характеризуется комплексностью и включает концепцию художника, воплощенную в его работах, их содержание и форму, а также эстетическое воздействие на реципиента. При этом данные разно- видности не имеют жесткой корреляции с субъектом оценки.
В отношении концепции, воплощенной в работах И. Наховой, доминирует позитивная рациональная оценка экспертов и нейтральная рациональная оценка художника. Содержание работ, оцениваемое на основе этой концепции, также получает позитивную интерпретацию экспертов, которая, однако, может сопрягаться с негативной оценкой изображаемого объекта. Форма произведений, мотивированная философско-эстетическими взглядами художника и индивидуальным содержанием отдельного произведения, также получает преимущественно позитивную рациональную оценку искусствоведов, которые, однако, рассматривают реализацию в ней категории не только прекрасного, но и безобразного. Это проявляется и в оценке эстетического воздействия произведений на реципиента, которая учитывает интеллектуальное и эмоциональное влияние, включая не только положительную интеллектуальную и эмоциональную оценку, но и эмоционально отрицательную.
Экспертная оценка творчества И. Наховой основана на анализе и является аргументированной. Для ее доказательства эксплицируется полученное в результате анализа системное видение объекта оценки и приводятся факты. Помимо этого, используются ссылки на мнение авторитетных личностей и зрителей, а также прием сои противопоставления с другими художниками. В связи с этим полагаем возможным дифференцировать оценку с основной и дополнительной аргументацией. В целом исследование позволило выявить наличие полифоничности, полихромно-сти и аргументированности в оценке творчества И. Наховой в англоязычном искусствоведческом дискурсе.
Список литературы Виды экспертной оценки в англоязычном искусствоведческом дискурсе о творчестве И. Наховой
- Аксенова Н. В., Денисова Н. В., Магнес Н. О. Контрафактивная советская фотография как когнитивная область для оценочной деятельности (на материале англоязычного искусствоведческого дискурса) // Вопросы когнитивной лингвистики. 2022. № 1. С. 40-51.
- Алексеева Л. М., Мишланова С. Л. Медицинский дискурс: теоретические основы и принципы анализа. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2002. 200 с.
- АРСС - Англо-русский синонимический словарь / Ю. Д. Апресян, В. В. Ботякова, Т. Э. Латышева [и др.]. М.: Рус. яз., 1979. 544 с.
- Арутюнова Н. Д. Типы языковых значений. Оценка. Событие. Факт. М.: Наука, 1998. 338 с.
- Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. 2-е изд., испр. М.: Языки русской культуры, 1999. 896 с.
- Баженова Е. А. Категория оценки // Стилистический энциклопедический словарь русского языка / под ред. М. Н. Кожиной. М.: Флинта: Наука, 2003. С. 139-146.
- Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979. 484 с.
- Болдырев Н. Н. Когнитивные доминанты языковой интерпретации // Когнитивные исследования языка. 2019. Вып. XXXVI. C. 43-52.
- Белоножко Н. Д. Аллюзия как оценочное средство языка: на материале английского языка: ав-тореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 2013. 19 с.
- Данилевская Н. В. Научный текст как динамика оценочных действий // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2009. Вып. 2. C. 20-28.
- Вольф Е. М. Функциональная семантика оценки. М.: URSS, 2005. 259 c.
- Демьянков В. З. Когнитивные техники трансфера знания // Когнитивные исследования языка. 2016. Вып. XXVI. C. 29-32.
- Денисова Н. В. Концептуальное искусство как способ консолидации коллективной памяти // Когнитивные исследования языка. 2021. № 3(46). С. 335-339.
- Емельянова О. В. Имагосфера советского плаката (на материале монографии В. Боннелл «Ico-nography of Power: Soviet Political Posters under Lenin and Stalin» // Материалы XIII Всерос. науч.-метод. конф. с междунар. участием «Current Issues in Modern Linguistics and Humanities», 26 марта, Москва, Рос. ун-т дружбы народов. М., 2021. С. 504-514.
- Ивин А. А. Основания логики оценки. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1970. 230 c.
- Каган М. С. Эстетика как философская наука. СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1997. 544 c.
- Котюрова М. П. Современный научный текст. Сквозь призму дискурсивных изменений. М.: Флинта, 2019. 260 с.
- Красильникова Л. В. Жанр научной рецензии: семантика и прагматика. М.: Диалог-МГУ, 1999. 137 с.
- Маркелова Т. В. Прагматика и семантика средств выражения оценки в русском языке. М.: Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова, 2013. 297 с.
- Матвеева Т. В. Функциональные стили в аспекте текстовых категорий. Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1990. 168 с.
- Мячинская Э. И. Интерпретация англоязычного искусствоведческого текста как когнитивного события // Когнитивные исследования языка. 2020. № 2(41). С. 418-423.
- Пашкова А. Д. Сопоставительное исследование категории оценки в медиа-политическом образо-
- вательном дискурсе США и России: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 2021. 24 с.
- Пермякова Т. М. Динамика соотношения категорий оценки и аргументативности в газетных текстах 1980-1990-х гг. под влиянием социальных факторов (на материале газет русского и английского языка): автореф. дис. ... канд. филол. наук. Пермь, 1997. 22 с.
- Петухова Т. И. Аспекты оценочной интерпретации в англоязычном искусствоведческом дискурсе // Когнитивные исследования языка. 2017. Вып. XXX. С. 283-286.
- Петухова Т. И. Ценностная когнитивная доминанта как вектор интерпретации русского изобразительного искусства в англоязычном искусствоведческом дискурсе // Когнитивные исследования языка. 2021. № 3 (46). С. 600-603.
- Петухова Т. И., Соколова Н. Ю., Хомякова Е. Г. Языковая репрезентация межкультурных отношений в англоязычном дискурсе, посвященном советскому изобразительному искусству периода «оттепели» // Вопросы когнитивной лингвистики. 2021. № 4. С 67-77.
- Петухова Т. И., Хомякова Е.Г. Новое знание и биполярность оценочной интерпретации изобразительного искусства соцреализма в англоязычном искусствоведческом дискурсе // Вопросы когнитивной лингвистики. 2020. № 4. С 53-63.
- Скаженик Е. Н. Категория оценки в лингво-культурологическом и лингвокогнитивном аспектах: На материале речи студентов: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Таганрог, 2002. 24 с.
- Сретенская Л. В. Функциональная семантико-стилистическая категория оценки в научных текстах разных жанров (На материале текстов по строит. экологии): автореф. дис. ... канд. филол. наук. СПб., 1994. 16 с.
- Телия В. Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц. М.: Наука, 1986. 141 с.
- Фролова И. В. Оценочные стратегии в аналитических статьях качественной британской и российской прессы: автореф. дисс. ... канд. филол. наук. М., 2016. 26 с.
- Хомякова Е. Г. Лингвистический анализ оценки в англоязычном искусствоведческом дискурсе // Общество. Среда. Развитие. 2020а. № 4. С. 3-7.
- Хомякова Е. Г. Диалог с художником. Линг-вокультурологический анализ текста одного интервью // Когнитивные исследования языка. 2020б. № 2 (41). С. 789-793.
- Хомякова Е. Г. Интерпретация концепта Russian Artist в англоязычном тексте // Когнитивные исследования языка. 2021. № 3 (46). С. 281-284.
- Шпякина О. А. Структура языкового концепта оценки в современном английском языке (на материале оценочных глаголов): автореф. дис. ... канд. филол. наук. СПб., 2005. 24 с.
- Basin J., Glatigny P. D., Piotrowski P. Art Beyond Borders: Artistic Exchange in Communist Europe (1945-1989). Leipzig Studies on the History and Culture of East-Central Europe. Vol. III. Budapest: Central European University Press. 2016. 518 p. URL: https://proxy.library.spbu.ru:4767/eds/ detail/detail?vid=12&sid=33403be7-77ed-448b-8e72-84ee3f099a72%40redis&bdata=Jmxhbmc9cnUmc2l 0ZT 1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT 1zaXRl#AN= 11799 19&db=nlebk (дата обращения: 03.05.2022).
- CD - Cambridge Dictionary. URL: https://dictio-nary.cambridge.org/ (дата обращения: 25.03.2022).
- Dickerman L. Camera Obscura: Socialist Realism in the Shadow of Photography. October. 2000. Issue 93. P. 139-153. URL: https://proxy.library. spbu.ru:4767/eds/detail/detail?vid=13&sid=33403be 7-77ed-448b-8e72-84ee3f099a72%40redis&bdata= Jmxhbmc9cnUmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT 1zaXRl#db=asn&AN=3680149 (дата обращения: 12.05.2022).
- Hardiman L., Kozicharow N. Modernism and the Spiritual in Russian Art: New Perspectives. Cambridge: Open Book Publishers. 2017. 313 p. URL: https://proxy.library.spbu.ru:4767/eds/detail/detail?v id=22&sid=33403be7-77ed-448b-8e72-84ee3f099a 72%40redis&bdata=Jmxhbmc9cnUmc2l0ZT 1lZHM tbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#AN= 1682816&db=e00 1mww (дата обращения: 12.05.2022).
- Hart C., Lukes D. Cognitive Linguistics in Critical Discourse Analysis: Application and Theory. Newcastle, UK: Cambridge Scholars Publishing. 2007. URL: https://eds.p.ebscohost.com/eds/ebook viewer/ebook/ZTAwMHh3 d 19fNTI0MTU2X 19BTg 2?sid=5b6c5bba-d40a-4779-ba 11-169406343812@ redis&vid=6&format=EB &rid=32 (дата обращения: 15.04.2022).
- Bonnell V. Iconography of Power: Soviet Political Posters under Lenin and Stalin. University of California Press, 1998. 385 p. (In Eng.)
- Bowlt J. Russian and Soviet Painting at San Francisco // The Burlington Magazine. 1977. Vol. 119, No. 894. P. 671-672 URL: https://proxy.library.spbu. ru:2163/stable/ 878988#metadata_info_tab_contents (дата обращения: 18.07.2022).
- Klevan A. Aesthetic Evaluation and Film. Manchester: Manchester University Press, 2018. 242 p. URL: https://eds.s.ebscohost.com/eds/detail/detail? vid=4&sid=c32ff25e-680a-4d74-a54b-75c7395ef0c 1%40redis&bdata=Jmxhbmc9cnUmc2l0ZT 1 lZHMtb Gl2ZSZzY29wZT 1zaXRl#AN= 1875941&db=nlebk (дата обращения: 05.06.2022).
- Other Voices: Three Centuries of Cultural Dialogue between Russia and Western Europe. Roberts Gr.H. (ed.). Newcastle upon Tyne: Cambridge
- Scholars Publishing, 2011. 248 p. URL: https://pro-xy.library.spbu.ru:4767/eds/detail/detail?vid=23&sid =33403be7-77ed-448b-8e72-84ee3f099a72%40redis &bdata=Jmxhbmc9cnUmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZz Y29wZT1zaXRl#AN=553440&db=nlebk (дата обращения: 12.05.2022).
- Roose H., Roose W., Daenekindt S. Trends in Contemporary Art Discourse: Using Topic Models to Analyze 25 years of Professional Art Criticism. Cultural Sociology. 2018. Vol. 12 (3). P. 303-324. URL: https://www.researchgate.net/publication/3244 17501_Trends_in_Contemporary_Art_Discourse_Us ing_Topic_Models_to_Analyze_25_years_of_Profess ional_Art_Criticism (дата обращения: 15.04.2022).
- Rusnock K.A. Socialist Realist Painting During the Stalinist Era: The High Art of Mass Art. Lewiston, N.Y.: Edwin Mellen Press, 2010. 219 p. URL: https://proxy.library.spbu.ru:4767/eds/detail/detail?v id=10&sid=33403be7-77ed-448b-8e72-84ee3f099a7 2%40redis&bdata=Jmxhbmc9cnUmc2l0ZT 1 lZHMt bGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#AN=483306&db=nlebk (дата обращения: 12.05.2022).
- Sharp J.A., Tulovsky J. Irina Nakhova: Museum on the Edge. New Brunswick, New Jersey: Rutgers University Press and the Zimmerli Art Museum, 2019. URL: https://proxy.library.spbu.ru:3648/ehost/ detail/detail?vid=4&sid=b3a3dd71 -ffff-4e3d-bc3a-c1ac1f2891 cc%40redis&bdata=JkF 1 dGhUeXBlPWl wJmxhbmc9cnU%3d#AN=2318016&db=nlebk (дата обращения: 31.01.2022).
- Taroutina M. The Icon and the Square: Russian Modernism and the Russo-Byzantine Revival. University Park, Pennsylvania: Penn State University Press, 2018. 271 p. URL: https://proxy.library. spbu.ru:4767/eds/detail/detail?vid=25&sid=33403be 7-77ed-448b-8e72-84ee3f099a72%40redis&bdata= Jmxhbmc9cnUmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT 1zaXRl#AN=1987321&db=nlebk (дата обращения: 12.05.2022).
- Van Dijk T. Society and Discourse. How social contexts control text and talk. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. 287 p.
- Van Dijk T. Discourse and Knowledge. A Socio-cognitive Approach. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. 407 p.
- Verschueren J. Understanding Pragmatics. London: Routledge, 1999. 312 p.
- Victoria and Albert Museum. The Conscription of the Arts during the Cold War. URL: http://www.vam.ac.uk/content/articles/t/the-conscrip-tion-of-the-arts-during-the-cold-war/ (дата обращения: 10.06.2022).
- Walsworth C. Soviet Salvage: Imperial Debris, Revolutionary Reuse, and Russian Constructivism. University Park, Pennsylvania: Penn State University Press, 2017. 233 p. URL: https://proxy.library.spbu.ru:4767/eds/detail/detail?vid=26&sid=33403be 7-77ed-448b-8e72-84ee3f099a72%40redis&bdata= Jmxhbmc9cnUmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT 1 zaXRl#AN= 1615331&db=nlebk (дата обращения: 12.05.2022).