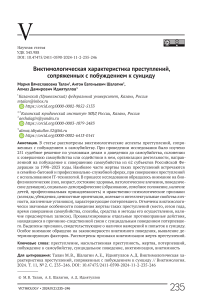Виктимологическая характеристика преступлений, сопряженных с побуждением к суициду
Автор: Талан М.В., Шалагин А.Е., Идиятуллов А.Д.
Журнал: Виктимология @victimologiy
Рубрика: Виктимология преступности
Статья в выпуске: 2 т.11, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены виктимологические аспекты преступлений, сопряженных с побуждением к самоубийству. При проведении исследования было изучено 251 судебное решение по уголовным делам о доведении до самоубийства, склонении к совершению самоубийства или содействии в нем, организации деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства из 62 субъектов Российской Федерации за 1998-2023 годы. Наиболее часто жертвы таких преступлений встречаются в семейно-бытовой и профессионально-служебной сферах, при совершении преступлений с использованием IT-технологий. В процессе исследования обращалось внимание на биофизиологические (пол, возраст, состояние здоровья, патологические влечения, поведенческие девиации), социально-демографические (образование, семейное положение, наличие детей, профессиональная принадлежность) и нравственно-психологические признаки (взгляды, убеждения, ценностные ориентации, волевые и интеллектуальные свойства личности, жизненные установки), характеризующие потерпевшего. Отмечены виктимологически значимые особенности поведения жертвы таких преступлений (место, сезон года, время совершения самоубийства, способы, средства и методы его осуществления, наличие предсмертных записок). Проанализированы отдельные противоправные действия, находящиеся в причинно-следственной связи с суицидальным поведением потерпевшего. Выделены признаки, свидетельствующие о наличии намерений и попыток к суициду. Особое внимание обращено на закономерности виктимного поведения, выявление детерминирующих факторов. Рассмотрены признаки виктимизации жертв преступлений.
Преступление, насильственная преступность, жертва, потерпевший, побуждение к самоубийству, суицидальное поведение, виктимизация, виктимность
Короткий адрес: https://sciup.org/14131109
IDR: 14131109 | УДК: 343 | DOI: 10.47475/2411-0590-2024-11-2-235-246
Текст научной статьи Виктимологическая характеристика преступлений, сопряженных с побуждением к суициду
Совершенствование законодательства в области защиты личности от насильственных посягательств имеет большое значение для укрепления законности и правопорядка. Виктимное поведение жертвы, находящееся во взаимосвязи и взаимообусловленности с противоправным поведением, требует всестороннего изучения со стороны научных направлений «Виктимология» и «Криминология» [5, с. 4].
Анализируя специальную литературу, можно отметить, что исследованию природы виктимного поведения, роли потерпевшего в зарождении и развитии криминальной ситуации уделяется значительное внимание, при этом недостаточно изучены в викти-мологическом плане ситуации, связанные с суицидом, что порождает обоснованный научный интерес к данной проблеме.
Самоубийство в XXI веке, как и на более ранних исторических этапах, продолжает оставаться серьезной социальной проблемой. Исследователи многих стран обращают внимание на этот феномен в своих исследованиях [17; 18; 19; 20; 21]. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), «жертвами суицидов ежегодно становятся 700×800 тыс. человек (1,4 % от общего количества смертельных случаев), от 10 до 20 млн получают различные увечья, пытаясь лишить себя жизни. Каждые 40 секунд на планете в результате суицида погибает один человек. Особо уязвимой оказывается возрастная категория от 15 до 29 лет, в силу возраста и отсутствия жизненного опыта»1.
Несмотря на своевременную корректировку уголовного законодательства в части установления новых способов преступного побуждения к суициду, а также введения новых составов преступлений, побуждающих к самоубийствам, расширения перечня квалифицирующих признаков 2 , криминальная ситуация, связанная с распространением подобных насильственных проявлений остается сложной, требующей повышенного внимания государственных и муниципальных органов, общественности [14, с. 1093].
Постановка проблемы
Анализ статистических данных за 2022 год, представленных в открытых источниках, показывает, что число жертв, погибших в результате преступлений, предусмотренных ст. 110–110.2 УК РФ, составляет 2,4 % (327 случаев)3 в общей структуре всех зарегистрированных суицидов в России (13 564)4. Однако по мнению экспертов, о котором говорит в своем исследовании М. Ю. Пучнина, «количество потерпевших гораздо больше, что не находит отражения в официальной статистике» [13, с. 12]. В докладе Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка обозначена еще одна проблема, которая требует серьезного отношения, и связана она с количеством самоубийств детей (в 2017 г. — 692; в 2018 г. — 788; в 2019 г. — 737; в 2020 г. — 548; в 2021 году— 753; в 2022 г. — 679)5. Необходимо отметить, что некоторые преступления такого вида, как правило, маскируются под несчастные случаи, дорожно-транспортные происшествия, случайные отравления, утопления и т. д. В настоящий период, по мнению А. П. Божченко, которое мы разделяем, «внимание правоохранительных органов должно быть сосредоточено на суицидальных происшествиях, обусловленных противоправными действиями иных лиц» [1, с. 5]. В научной литературе не проведено комплексное исследование личности потерпевшего по преступлениям, предусмотренным ст. 110–110.2 УК РФ, с учетом появления новых угроз для информационно-психологической безопасности подростков и молодежи, деструктивного влияния на физическое и психическое здоровье пользователей сети Интернет, вовлечения несовершеннолетних в опасные и рискованные компьютерные игры. Изучение данной проблемы представляет актуальность, теоретическую и практическую значимость. Дистанционные преступления порождают новые угрозы и вызовы обществу [10, с. 8].
Объектом исследования выступает комплекс теоретических и практических вопросов, отражающих виктимологические аспекты преступлений, сопряженных с побуждением к самоубийству.
Предметом исследования являются внутренние и внешние закономерности, состояние и тенденции криминальной виктимизации жертв преступлений, предусмотренных ст. 110–110.2 УК РФ, аналитические и статистические материалы, следственная и судебная практика.
Цель исследования заключается в изучении виктимологических аспектов преступлений, сопряженных с побуждением к суициду, выявлении особенностей виктимизации жертв таких преступлений, их детерминирующих факторов (половозрастных, социально-психологических, демографических).
Задачи исследования:
-
— дать виктимологическую характеристику преступлениям, сопряженным с побуждением к суициду;
-
— изучить признаки жертвы преступлений, предусмотренных ст. 110–110.2 УК РФ;
-
— предложить типологию жертв таких преступлений;
-
— проанализировать детерминанты вик-тимного поведения рассматриваемых уголовно наказуемых деяний.
Методология и методика исследования
Методологическую основу исследования составляют диалектический метод познания; авторами применялись общенаучные (анализ, синтез, индукция, дедукция, сравнение) и частнонаучные (формальнологический, структурно-функциональный, системный, статистический) методы исследования, используемые в современной криминологии и виктимологии.
Теоретической основой проведенного исследования являются научные труды и исследования А. П. Божченко [1], Ю. А. Джахба-рова [4], Е. Г. Ермолаевой [5], П. А. Кабанова [6; 7; 8], О. В. Лихачевой [9], А. В. Майорова [10; 11], Л. Е. Окс [11], М. Ю. Пучниной [13], Э. Г. Юзихановой и В. А. Нифонтова [16]. Отельные аспекты личности потерпевшего по преступлениям, связанным с побуждением к самоубийству, которые рассматривались в диссертационных исследованиях Е. В. Буряковской [2], Е. К. Волконской [3], Е. Г. Ермолаевой [5], Ю. А. Уколовой [15] и др.
Эмпирической основой проведенного исследования являются статистические данные Всемирной организации здравоохранения, Уполномоченного при Президенте РФ, Федеральной службы государственной статистики РФ, МВД России, материалы судебной и следственной практики, данные, полученные в результате контент-анализа интернет-ресурсов.
Процесс проведения исследованияи его результат
Проведенное исследование основывается на анализе данных о виктимности 251 жертвы преступлений, предусмотренных ст. 110-110.2 УК РФ, из судебных решений 62 субъектов Российской Федерации, за период с 1998 по 2023 годы. Использование обобщенных сведений о подобных лицах предоставило возможность определить четыре основные группы и классифицировать потерпевших:
-
а) в семейно-бытовой сфере (75,5 %);
-
б) в результате незаконного завладения чужим имуществом (7,1 %);
-
в) в части профессионально-служебных отношений (6,7 %);
-
г) лица, ставшие жертвой преступной деятельности, осуществляемой при распространении суицидальной идеологии в сети Интернет, склонении к суициду путем негативного информационно-психологического воздействия и втягивания в компьютерные игры, представляющие опасность для жизни и здоровья (10,7 %).
В результате проведенного анализа с учетом указанной классификации мы пришли к выводу о том, что жертвы криминально обусловленного суицида в сфере семейно-бытовых и профессионально-служебных отношений, а также вследствие конфликтов, связанных с распределением права собственности, обнаруживают схожие вик-тимологические свойства личности, поэтому для удобства исследования объединили их в одну группу (далее— группу № 1). Во второй группе были изучены данные о потерпевших от преступлений, совершенных с использованием IT-технологий (далее— группа № 2).
Полученные и обработанные нами статистические данные отображают: викти-мологический портрет личности потерпевшего с суицидальным поведением, к которому относятся лица женского (71,6 %; 77,8 %)1 и мужского пола (28,4 %; 22,2 %), имеющие гражданство РФ (97,5 %; 96,3 %), с основным (27,2 %; 70,4 %), средним (34,6 %; 25,9 %), средним профессиональным (33,1 %; 3,7 %), и высшим образованием (5,1 %; —). Среди потерпевших выделяются следующие возрастные группы:
-
а) 9–11 лет (1,8 %; —);
-
б) 12–15 лет (10,1 %; 51,9 %);
-
в) 16–17 лет (14,3 %; 40,7 %);
-
г) 18–24 лет (12 %; 7,4 %);
-
д) 25–29 лет (20,7 %; —);
-
е) 30–49 лет (28,2 %; —);
-
ж) 50 лет и старше (12,9 %; —).
Подобные лица, как правило, не состоят в семейно-брачных отношениях (58,5 %; 96,3 %) и не имеют детей (69,6 %; 96,3 %).
Невысокий образовательный уровень жертвы преступлений, предусмотренных ст. 110–110.2 УК РФ, негативно отражается на ее способности защищаться от противоправных посягательств, что выражается в неосмотрительности, неумении оценить сложившуюся ситуацию, обратиться за помощью, предвидеть последствия своего поведения [12, с. 17].
Социально-ролевые признаки жертвы выражаются в принадлежности к: наемным рабочим (34,1 %; 7,4 %), лицам без постоянных источников дохода, в том числе безработным (31,8 %; —), учащимся или студентам (27,7 %; 92,6 %), служащим (4,2 %; —), предпринимателям без образования юридического лица (1,7 %; —), работникам органов государственной, муниципальной власти (0,5 %; —).
Бытовые условия проживания таких лиц нередко неудовлетворительны (32,3 %; 17,4 %), ввиду алкоголизма (31,3 %; 13,7 %), или наркомании близких родственников (1,5 %; —); низкого уровня доходов (19,9 %; 12,4 %); проживания в неполной семье (38 %; 41,3 %); лишения (ограничения) родительских прав (2,1 %; 0,8 %); сиротства (3,1 %; 1,6 %); антисанитарных условий (14,5 %; 5,7 %).
Согласно исследованию О. В. Лихачевой, в отдельных российских семьях имеют место «различные формы насильственных проявлений (побои, умышленное причинение вреда здоровью различной степени тяжести, истязания, угрозы убийством и т. д.). В семейно-бытовой сфере только 1/10 часть противоправных действий получает надлежащую правовую оценку, что свидетельствует о высокой латентности насильственных преступлений» [9, с. 3].
Значительное количество криминально обусловленного самоубийства вызвано межличностными конфликтами, как правило, на почве неприязненных отношений. К причинам, обуславливающим побуждение к самоубийству необходимо отнести конфликты, связанные с распределением собственности (иные преступные посягательства, обусловленные незаконным завладением чужим имуществом) и неблагоприятно складывающиеся служебно-деловые отношения. Виновными по уголовным делам, предусмотренным ст. 110–110.2 УК РФ выступают супруги или сожители (36,6 %; 4,5 %), родители (14,8 %; —), иные родственники (16,6 %; —), а также, малознакомые граждане (24,1 %; 13,6 %), сослуживцы (5,9 %; —), руководители (0,8 %; —), педагоги (0,8 %; —), деловые партнеры (0,4 %; —). Подавляющее большинство виновных по преступлениям, совершенным с использованием IT-технологий, были незнакомы с потерпевшими (81,9 %).
Антиобщественный образ жизни семейного окружения, злоупотребление алкоголем и иными психоактивными веществами, угрозы жизни и здоровью, жестокое обращение, систематическое унижение человеческого достоинства, которым в течение длительного времени подвергаются жертвы семейного насилия, создают невыносимые условия совместного проживания, что в свою очередь провоцирует суицидальные поступки. Согласно результатам нашего исследования, потерпевшие зачастую проживали с виновным в одном населенном пункте (94 %; 3,7 %) и в одном жилище (71 %; —), что существенно повышало их виктимность.
Жертва чаще всего подвергается преступным посягательствам в дневное (33,2 %), 239
вечернее (41,6 %), утреннее (13,4 %) и ночное (11,8 %) время, по месту своего проживания (81,5 %), то есть, в период совместного нахождения с виновным в одном помещении.
Потерпевший в подавляющем большинстве случаев выбирает в качестве места самоубийства собственное жилье (частное домовладение, квартира, общежитие, коммунальная комната) (77,6 %). В отдельных случаях нежилое уединённое место (придомовые постройки (сарай, баня, душевая), чердак, гараж, железнодорожные пути, мост, высотная конструкция, открытый водоем, колодец, лесной массив) (11,9 %). Редко встречается общественное место (двор, гостиница, улица, шиномонтажная мастерская, помещения, предназначенные для административно-офисных, лечебно-санитарных, пенитенциарных целей) (10,5 %).
Самоубийства, как правило, совершаются в вечернее (37,4 %) или дневное (33,2 %) время суток, реже— в ночной (15,5 %) или утренний (13,9 %) периоды. Схожие результаты получены в исследовании Е. Г. Ермолаевой, согласно которому активность суицидальных действий проходится на вечернее (37 %), дневное (39 %) и ночное время (24 %) [5, с. 59]. Подобные происшествия происходят в летний (32,3 %) или зимний (24,4 %) период года, реже в осенний (21,2 %) и весенний (22,1 %) сезон.
В качестве способов суицида доминируют повешение, удушение (45,5 %; 7,4 %), отравление лекарственными препаратами, наркотиками, химическими веществами, ядами, угарным газом (20,6 %; 25,9 %), падение с высоты (15,3 %; 14,8 %), повреждение колюще-режущими предметами (13,1 %; 40,8 %), причинение смерти при столкновении с железнодорожным транспортом (1,8 %; 7,4 %), использование огнестрельного оружия (1,4 %; —), утопление (1,8 %; 3,7 %), самосожжение (0,5 %; —).
Нередко такие лица оставляют предсмертные записки (в том числе в сети Интернет) (30 %; 11,1 %), где могут содержаться сведения о причинах, побудивших потерпевшего покончить с собой и лицах, причастных к суициду.
Смертность от криминально обусловленных самоубийств значительно выше в группе № 1 (56,2 %), чем в группе № 2 (7,4 %). Такое различие в количестве летальных исходов, по нашему мнению, может быть вызвано тем, что в первом случае потерпевшим становится лицо— жертва семейно-бытового, домашнего насилия и неблагоприятно складывающихся служебно-деловых отношений. В таких случаях, потерпевший находится в непосредственном контакте с виновным лицом, ежедневно подвергаясь систематическому унижению человеческого достоинства, жестокому обращению, угрозам жизни и здоровью. Во втором случае преступное воздействие носит информационный характер и, как правило, осуществляется дистанционным (бесконтактным) способом в сети Интернет.
При этом смертность мужчин от суицидов (72,6 %; 16,7 %) выше, чем у женщин (49,7 %; 4,8 %), поскольку первые избирают такие способы, которые гарантированно приводят к летальному исходу (повешение, удушение). Женщины чаще всего пытаются свести счеты с жизнью, используя лекарственные (сильнодействующие) вещества и колюще-режущие предметы, то есть способы, в большинстве случаев не вызывающие мгновенную смерть.
Потерпевшие с целью самоубийства употребляют уксусную кислоту, лекарственные препараты («Фенозепам», «Энам», «Дротаверин», «Димедрол», «Темпалгин» и др.), а также крысиный яд, наркотические средства из группы фенилалкиламинов или барбитуратов (пентобарбитал). В случае неоказания медицинской помощи такие отравления нередко приводят к смертельному исходу. Необходимо отметить, что ограничение доступа к средствам совершения самоубийства (медицинским препаратам, холодному и огнестрельному оружию, токсичным веществам, ядам) являются превентивными мерами, способствующими минимизации суицидов 1 .
Насильственные проявления и преступные посягательства, находящиеся в причинно-следственной связи с суицидальным поведением потерпевшего из группы № 1, включают в себя широкий круг преступных деяний: нанесение побоев, истязание ст. 116, 116.1, 117 УК РФ— 20,9 %; угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью ст. 119 УК РФ — 13,9 %; незаконное завладение чужим имуществом ст. 158, 159, 161, 162, 163 УК РФ — 4,2 %; умышленное причинение вреда здоровью различной степени тяжести ст. 111, 112, 115 УК РФ— 3,2 %; совершение половых преступлений ст. 131, 132, 133, 134, 135 УК РФ— 3 %; повреждение (уничтожение) имущества ст. 167 УК РФ— 2,2 %; неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ст. 156 УК РФ— 1,5 %; клевета ст. 128.1 УК РФ— 1,8 %; похищение или незаконное лишение свободы ст. 126, 127 УК РФ— 1,2 %; самоуправство ст. 330 УК РФ — 0,8 %; нарушение конституционных прав, в том числе неприкосновенность частной жизни, жилища, тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых и иных сообщений ст. 137, 138, 139 УК РФ — 0,5 %; принуждение к занятию проституцией ст. 240, 241 УК РФ— 0,4 %.
Кроме того, к подобным действиям следует отнести систематические оскорбления, унижения, травлю (25 %), выселение из жилища (3 %), лишение пищи (2,4 %), свиданий с детьми (0,7 %), медицинской помощи (0,3 %), применение недозволительных методов воспитания (3,4 %), препятствование общению с близкими (2,4 %), ограничение передвижения (0,9 %), принуждение к тяжелому физическому труду (1,8 %), антисанитарные условия проживания (1,7 %), ограничение свободы (0,9 %), демонстративное прелюбодеяние (0,8 %), лишение доступа к сети Интернет (0,7 %), неуставные взаимоотношения в Вооруженных Силах (0,7 %), принуждение к вступлению в брак или к сожительству (0,5 %), распространение фото- и видеоизображений потерпевшего сексуального характера (0,5 %), понуждение к попрошайничеству (0,7 %) и проч.
В качестве примера считаем необходимым привести следующий случай: «гр. Б. при совместном проживании со своей матерью В., (инвалидом 2-ой группы) систематически применял в отношении последней физическое насилие, оскорблял нецензурной бранью, неоднократно высказывал в ее адрес угрозы убийством, в том числе в присутствии посторонних лиц. Жестокое обращение выражалось в том, что подсудимый, не имея собственного источника доходов, забирал у потерпевшей пенсионные накопления, оставляя ее без средств к существованию, препятствовал общению с родственниками. В результате преступных действий потерпевшая, находясь в тяжелом эмоционально-психологическом состоянии, покончила жизнь самоубийством»1.
Проблеме влияния интернет-ресурсов на суицидальное поведение подростков и молодежи уделяется значительное внимание. Такие самоубийства вызваны: оскорблением, унижением, буллингом (33,4 %); выполнением игровых заданий, опасных для жизни и здоровья (33,3 %); высказыванием угроз (22,2 %); распространением порочащих сведений (7,4 %); вымогательством денежных средств (ст. 163 УК РФ) (3,7 %).
Участниками суицидальных сообществ (групп смерти), как правило, становятся дети и подростки, изначально находящиеся в тяжелой жизненной ситуации. К их числу относят: семейные конфликты (развод родителей) (33,4 %); смерть (суицид) близких родственников (18,5 %); неудачные любовные отношения (7,4 %); конфликты в шко-ле/вузе (3,7 %); алкоголизм (наркоманию) среди близкого окружения (3,7 %); неуемное любопытство (33,3 %).
Повышенная виктимность в данных случаях обусловлена эмоциональными, волевыми и поведенческими особенностями потерпевшего. Предикторами виктимизации могут являться психические заболевания (36,4 %; 56,7 %), предыдущие суицидальные попытки (39,6 %; 35,7 %), поведенческие девиации (лудомания, клептомания (7,2 %; —), алкоголизм (7,6 %; —), наркомания (0,5 %; —), антиобщественная деятельность (7,8 %; 3,9 %), бродяжничество (0,9 %; 3,7 %).
В этом отношении наиболее показательно состояние опьянения. Алкоголь сни жает бдит ельность и сопротивляемость
жертвы, существенно облегчает виновному реализацию его преступных намерений. Потерпевший, пытаясь «решить проблему» при помощи психоактивных веществ, лишь усугубляет свое психическое состояние. Алкогольное и наркотическое опьянение способствуют снижению самоконтроля, приводят к ослаблению критического восприятия окружающей действительности, ускоряют принятие решения о самоубийстве. Необходимо отметить, что во время совершения преступления, отдельные потерпевшие находились в состоянии алкогольного (29 %; —) и наркотического (0,5 %; —) опьянения. Впоследствии некоторые из них для усиления решимости покончить с собой перед суицидом употребляли спиртные напитки (30 %; 22,2 %).
В отдельных случаях потерпевшие ведут асоциальный образ жизни, состоят на профилактических учётах в связи с неисполнением родительских обязанностей (0,9 %; —); нахождением в социально-опасном положении (2,3 %; —); употреблением наркотических средств (1,8 %; —); со склонностью к членовредительству (3,7 %; —); пребыванием под административным надзором (0,5 %; —); нарушением режима в пенитенциарных учреждениях (0,5 %; —).
Психологические особенности жертвы могут быть взаимообусловлены конкретной жизненной ситуацией [11; 16]. Потерпевший обладает личностными особенностями, усиливающими его виктимизацию в ситуации семейного или служебно-делового конфликта. Негативные нравственнопсихологические характеристики могут проявиться при создании обстановки, способствующей совершению преступления или административного правонарушения. Например, виктимные признаки потенциальной жертвы включают тревожное состояние, запуганность, установку на беспомощность, низкий уровень самооценки, перепады настроения, психосоциальные проблемы, одиночество, подверженность постороннему влиянию, неспособность повлиять на обстановку в семье, коллективе, учебной группе.
По результатам изучения судебных решений можно предположить, что профессиональная или социально-ролевая принадлежность (прохождение службы в Вооруженных Силах РФ, отбывание уголовного наказания в пенитенциарных учреждениях, нахождение в воспитательном учреждении, детской колонии, домах престарелых) значительно предопределяют поведение потерпевшего. Повышенной виктимностью обладают лица, находящиеся в беспомощном состоянии либо материальной или иной зависимости от виновного (несовершеннолетние, женщины в состоянии беременности, пожилые граждане, инвалиды, безработные, подчиненные по службе, осужденные к лишению свободы и др.).
Признаками, свидетельствующими о наличии намерений к суицидальным поступкам, являются: потеря интереса к жизни, резкая смена настроения, безразличие к социальным нормам и правилам общежития, разрыв или игнорирование общественных контактов, изменение привычек в питании, режима сна, неоднократные побеги из дома (школы), протестное (агрессивное) поведение, снижение успеваемости в школе (вузе), пренебрежение к своему внешнему виду, безразличное отношение к собственности, ранние попытки самоубийства и проч. [19, с. 41].
Выводы по результатам проведенного исследования
Виктимологический портрет жертвы преступлений, предусмотренных ст. 110–110.2 УК РФ: лица в возрасте 12–15 и 30–49 лет, имеющие гражданство РФ, со средним полным (общим) или начальным/основным общим образованием, не состоящие в семейно-брачных отношениях, не имеющие детей, занятые в низкоквалифицированной трудовой деятельности или обучающиеся в школе (вузе). Потерпевшему нередко характерны психические заболевания, патологические влечения, поведенческие девиации, предыдущие суицидальные попытки. К причинам, обуславливающим побуждение к суициду, относятся: насилие в семье, отсутствие конструктивных отношений в служебно-деловой сфере, незаконное завладение чужим имуществом, деструктивная деятельность интернет-сообществ (групп), пропагандирующих самоубийства, склонение детей и подростков к членовредительству, опасному поведению.
Виктимологическая характеристика преступлений, предусмотренных ст. 110–110.2 УК РФ, предусматривает анализ детерминирующих факторов, способствующих виктимизации жертв доведения до суицида и как следствие дальнейшую разработку мер виктимологической профилактики.
Данная проблема заслуживает комплексного криминологического анализа, затрагивающего наряду с личностью преступника виктимологические характеристики жертвы преступного посягательства, разработку мер предупреждения, выявления, пресечения преступлений в рассматриваемой сфере.
Список литературы Виктимологическая характеристика преступлений, сопряженных с побуждением к суициду
- Божченко А. П. Факторы риска суицида, устанавливаемые в ходе судебно-медицинской экспертизы трупа // Суицидология. 2023. Т. 14, № 2 (51). С. 3-21. DOI: https://doi.о^10.32878/ suiciderus.23-14-02(51)-3-21
- Буряковская Е.В.Уголовно-правовая и криминологическая характеристика доведения до самоубийства: автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.08. Санкт-Петербург, 2020. 25 с.
- Волконская Е.К. Предупреждение доведения до самоубийства: уголовно-правовой и криминологический аспекты: автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.08. Рязань, 2011. 25 с.
- Джахбаров Ю.А. Криминологическая характеристика и профилактика насильственных преступлений: автореф дис. канд юрид наук: 12 00 08 Рязань, 2004 32 с
- Ермолаева Е.Г. Суицид и преступность: дис.... канд. юрид. наук: 12.00.08. Саратов, 2007. 236 с.
- Кабанов П.А. Виктимологическое измерение последствий современной российской преступности: криминологический анализ официальной статистики 2009-2016 гг. // Виктимология. 2017. № 2 (12).С.5-23.
- Кабанов П.А. Виктимологическое измерение криминальной смертности в Российской Федерации: анализ статистических показателей 2015-2020 гг.// Виктимология. 2022.Т. 9, № 1. С. 7-19. DOI: Ы^://Йоь org/10.47475/2411-0590-2022-10901
- Кабанов П.А. Криминальная виктимность несовершеннолетних в Российской Федерации: состояние, структура, тенденции (результаты статистического наблюдения) // Виктимология. 2023. Т. 10, № 3. С. 263-293. DOI: Ыttps://doi. org/10.47475/2411-0590-2023-10-3-263-29
- Лихачева О.В. Латентная жертва насильственного преступлений, совершаемых в сфере семейных отношений: автореф дис. канд юрид наук: 12 00 08 Тюмень, 2006 24 с
- Майоров А. В. Виктимная безопасность общества в современных условиях // Вестник При-камского социального института. 2023. № 1 (94). С. 8-16.
- Майоров А.В.Частная методика прогнозирования и моделирования виктимологической ситуации // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2020. № 4 (54). С. 52-58.
- Окс Л. Е. Виктимологическая характеристика и профилактика корыстно-насильственной преступности в условиях мегаполиса: автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.08. Москва, 2009. 33 с.
- Пучнина М. Ю. Криминальный суицид несовершеннолетних: криминологические и уголовно-правовые меры противодействия: дис.... канд. юрид. наук: 12.00.08. Воронеж, 2019. 254 с.
- Талан М.В. , Шалагин А.Е. , Идиятуллов А.Д. Правовая регламентация ответственности за посягательства, связанные с побуждением к самоубийству: отечественный и зарубежный опыт // Вестник Санкт-Петербургского университета. Право. 2022. Т. 13, № 4. С. 1078-1098. DOI: Ыttps:// doi. org/10.21638/spbu14.2022.415
- Уколова Ю.А. Проблемы квалификации доведения до самоубийства как преступного деяния: автореф дис. канд юрид наук: 12 00 08 Москва, 2008 25 с
- Юзиханова Э.Г. , Нифонтов В.А.Виктимологическая обусловленность насильственной преступности // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2013. № 4 (26). С. 43-48.
- Brent D.A. , Perper J.A. , Goldstein C.E., Kolko D J., Allan M J., Allman C J., Zelenak J.P.Risk factors for adolescent suicide. A comparison of adolescent suicide victims with suicidal inpatients // Arch Gen Psychiatry. 1988.Vol.45, no. 6. P. 581-588. DOI: https://doi. org/10 ,1001/archpsyc.1988.01800300079011
- Canetto S.S. , Entilli L. , Cerbo I. , Cipolletta S. Suicide Scripts in Italian Newspapers // Crisis. 2023.Vol.44, no. 5. P 398-405. DOI: https://doi. org/10,1027/0227-5910/a000890
- Glen E., Farberow N.L. The Encyclopedia of Suicide. 2nd ed. New York: Facts On File, 2003. 329 p.
- Gearing R. E., Brewer K. B., Cheung M., Leung P , Chen W., He X. Suicide in China: Community Attitudes and Stigma // Omega (Westport). 2023. Vol. 86, no. 3. P. 809-832. DOI: https://doi. org/10.1177/0030222821991313
- Younis M. S., Lafta R. K. Suicide and suicidality in Iraq: a systematic review // Med Confl Surviv. 2023.Vol. 39, no. 1. P. 48-62. DOI: https://doi. org/10.1080/13623699.2023.2170580