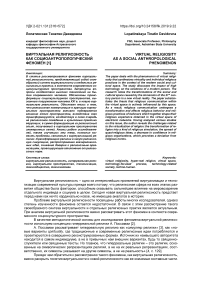Виртуальная религиозность как социоантропологический феномен
Автор: Лопатинская Тинатин Давидовна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Культура
Статья в выпуске: 9, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается феномен виртуальной религиозности, представляющий собой своеобразный синтез виртуальности и отдельных религиозных практик, в контексте современного социокультурного пространства. Затронуты вопросы воздействия высоких технологий на бытие современного человека. Обозначены трансформации социокультурного пространства, вызванные погружением человека XXI в. в новую виртуальную реальность. Обоснован тезис о том, что религиозная коммуникация в границах виртуального пространства активно подвергается влиянию этого пространства, вследствие чего трансформируется, воздействуя в свою очередь на религиозное поведение и культовые практики верующих, в сумме формирующие их религиозный опыт, получаемый в виртуальном пространстве электронных сетей. Анализ работ исследователей, также изучавших эту тему, позволил выявить проблемы, связанные с виртуализацией религии: трансформацию религии в некую религиозную симуляцию, распространение квазирелигиозных идей, снижение доверия к религиозным организациям, провоцирующее отклонение от религиозных норм.
Виртуальная религиозность, гиперреальная религия, виртуальное пространство, техногизация, технообщество, техночеловек
Короткий адрес: https://sciup.org/149134052
IDR: 149134052 | УДК: 2-021.131:[316+572] | DOI: 10.24158/fik.2019.9.22
Текст научной статьи Виртуальная религиозность как социоантропологический феномен
Виртуальная религиозность – одно из интереснейших проявлений виртуализации и техно-гизации современной культуры прежде всего потому, что религиозная сфера на всех этапах развития общества была фактором, способным оказывать сильнейшее влияние на мировоззрение отдельного индивида и социума в целом. Сегодня новая виртуальная религиозность предстает перед нами как нечто кардинально новое, не имеющее аналогов в истории.
Проблеме виртуальной религиозности посвящены работы многих исследователей, однако степень изученности феномена остается недостаточной. В связи с этим рассмотрение такого своеобразного синтеза виртуальности и отдельных религиозных практик является актуальным. При анализе виртуальной религиозности важно рассматривать этот феномен в контексте современного социокультурного пространства.
В качестве методологической основы для исследования феномена виртуальной религиозности используем концепцию гиперреальной религии А. Поссамаи [2].
А. Поссамаи рассматривает гиперреальную религию как «симулякр религии» [3], как «новые варианты spirituality , где традиционные и современные религиозные идеи потребляются и проектируются в совершенно реконструированных формах. Источник их наивысшего авторитета находится в самом индивидууме, а не в привычных нам внешних вариантах, будь то священнослужители или священные тексты. Но главное, что гиперреальные религии – это религии, основанные на символических репрезентациях религий, а не на их реальных репрезентациях, соответственно, их символы указывают на другие символы, а не на реальность» [4, с. 129].
Прежде чем обратиться к рассмотрению такого феномена, как виртуальная религиозность, важно раскрыть понятия виртуальности и новой религиозности как ее значимые составные части.
Проблематика виртуальности в последнее время занимает центральное место в современных представлениях о формировании техномира, социума и человека. Представляется, что проблемное поле виртуальности и новой религиозности следует интерпретировать в рамках общих теорий виртуализации культуры.
Начиная со второй половины XX в. в социокультурном пространстве происходят трансформационные процессы, связанные с виртуализацией культуры, формированием уникального высокотехнологического общества и т. д. Прежде всего эти изменения связаны с внутренними качественными изменениями социума и индивида. Актуальные представления о конструировании современного техномира, социума и человека проявляются в следующих новых социальных формах и системах:
-
1) усложнении и расширении процессов сетевого взаимодействия. В формирующемся технообществе в большей степени именно сетевое взаимодействие координирует направление векторов распространения информации. Охватывая все социокультурное пространство, клипированные потоки информации оказывают централизованное воздействие на всю социальную структуру: усложняется социальная иерархия, активно развиваются социальные сети и сетевая культура в целом, тиражируется виртуальное пространство – пространство, наполненное симулякрами, усложняются система кодирования знания и сетевые методы управления интернет-коммуникацией [5];
-
2) усилении субъективизма – уменьшении интереса к сути вещей при гипертрофии образа, имиджа, знака, виртуальности. В пространстве высокотехнологического общества наблюдается доминирование я-ценности над сверхличностными общественными ценностями, что приводит к смещению фокуса внимания с межличностных, т. е. социальных отношений, на внутреннюю сферу индивида [6];
-
3) клиповости культурных форм, проявляющейся во всех формах общественного бытия. Современный человек воспринимает все бытийное пространство через клип – отрывисто, без явных связей и взаимозависимостей. При этом картинки и образы в поле зрения реципиента мгновенно сменяют друг друга, формируя фрагментарный информационный поток, характеризующийся разнородностью поступающей информации [7];
-
4) виртуализации культуры. Весь мир, социум и каждый индивид в отдельности сегодня находятся в пространстве всеобщей виртуализации, которая охватывает все сферы жизнедеятельности. Этот глобальный процесс протекает в общемировом масштабе, и его пиковая активность иллюстрирует исключительную роль последнего. Значительные достижения в становлении процесса виртуализации сыграл научно-технический прогресс, с которым напрямую связана новая ступень общественного развития. Глобальная виртуализация поступенчато формирует бытийную сферу социума – высокотехнологическую информационную реальность современности. Последняя становится непосредственной сферой жизнедеятельности современного человека [8].
Таким образом, в глобальной высокотехнологической информационной реальности современного мира происходит множество социокультурных процессов. В новой виртуальной реальности формируются и развиваются новые общественные и религиозные течения, создаются и функционируют электронные библиотеки, пишутся виртуальные компьютерные игры и др. Так, новые культурные паттерны погружают индивида в виртуальное пространство, предлагая ему реальность более ясную, чем реальность существования.
Данная виртуальная среда стала перспективным пространством и для религиозной деятельности. Разные религиозные организации используют иллюзорное пространство для удовлетворения религиозных потребностей индивидов и получения ими религиозного опыта.
Канадский философ Ч. Тейлор считает, что в современном технообществе понятие о новой религиозности все еще можно получить через категорию трансцендентного. Принципиальное отличие глобальной высокотехнологической информационной реальности автор видит в торжестве «эксклюзивного гуманизма», когда каждый человек получил возможность сам выбирать свои мировоззренческие установки, освободившись от «наивной» веры [9].
Исследователь-публицист А.И. Кырлежев считает, что современное бытийное пространство индивида знаменует собой размывание границ между нерелигиозным и религиозным мышлением [10, с. 106]. В этом контексте новая религиозность может вторгнуться практически в любую сферу современного технообщества. «Возвращение религиозного разума в мир лишь знаменует собой крушение слепой веры в миф о просвещенческом разуме. Современный человек оказывается в ситуации полной свободы в выборе того, что он хочет считать религией» [11]. «Новые структуры действительно подрывают старые формы веры, но при этом оставляют возможность для расцвета новых» [12, с. 71].
Решающим условием для функционирования новой религиозности является процесс рационализации, который выступает необходимым компонентом технообщества современного типа. При этом «религия по-прежнему сохраняет значительный потенциал “реальности”, т. е. сохраняет значимость для побуждений и самосознания людей в этой сфере повседневной социальной деятельности» [13]. В индивидуальной сфере религиозность становится делом выбора конкретного индивида. Такая форма религиозности, с одной стороны, сохраняет реальность существования для своих сторонников, с другой – не навязывает в классическом понимании «общезначимый высший смысл».
Таким образом, религиозные организации в контексте современной реальности оказываются в состоянии выбора. Либо они адаптируются, «играя роль свободного религиозного предприятия по правилам плюрализма, и справляются по мере сил с проблемой убедительности, приспосабливая свою продукцию к потребительскому спросу. Либо они отказываются приспосабливаться, окапываются под защитой тех социально-религиозных структур, которые им удается сохранить или создать, и продолжают проповедовать по мере сил прежнюю свою реальность, делая вид, что ничего не случилось» [14].
Следует отметить, что процесс индивидуализации религии в значительной степени проявился в следующих характерных чертах религиозных инноваций:
-
1) акцент на личном опыте и персональном переживании божественного. Согласно теории П. Бергера, «современный человек освобождается от бремени традиции и находится в состоянии деятельного выбора. Упадок религии, основанной на традиции и авторитете, возмещается обращением человека к религиозному опыту как опыту “внутренней свободы”» [15];
-
2) «новый способ восприятия духовности и трансцендентности», т. е. многие современные люди, признавая свой религиозный опыт, не посещают храмы, оправдывая себя персональным переживанием «новой религиозной потребности».
Таким образом, рассмотрев понятия виртуальности и новой религиозности, делаем вывод, что эти феномены становятся постоянными спутниками современного человека, в том числе и верующего, оказывая значительное влияние на его сознание.
Проблеме виртуальной религиозности сегодня посвящены работы многих исследователей: Л.Д. Бевзенко [16], О.В. Добродум [17], О.Б. Иванковой-Стецюк [18], Д. Мартина [19], А.М. Невшупы [20], М.С. Петрушкевич [21] и др. Так, О.В. Добродум изучает проблему пересечения сети Интернет и религии на примере русскоязычного сегмента Всемирной паутины [22]. А.М. Невшупа занимается проблемой религиозности в виртуальном пространстве и религиозном сознании пользователей [23]. М.С. Петрушкевич акцентирует внимание на изучении интернета как площадки для осуществления межрелигиозного диалога [24].
При этом большинство исследователей сходятся во мнении, что религия обладает сильнейшим потенциалом воздействия на человеческую жизнедеятельность. Л.Д. Бевзенко, опираясь на собственное исследование, делает вывод, что религия является фактором, который может влиять на поведение людей [25]. Уровень этого влияния подвержен колебаниям: от легкой религиозности, которая может проявляться в виде религиозных практик, до доминантного влияния религии, оказываемого на мировоззрение индивида [26]. О.Б. Иванкова-Стецюк относит религию к важнейшим факторам, оказывающим непосредственное влияние на социальные изменения [27]. Религиозная самоидентификация выступает универсальным средством сплочения тех или иных социальных слоев, при этом обеспечивая социальную и культурную устойчивость и интеграцию социума [28].
Опираясь на мнения авторитетных исследователей, возможно говорить о том, что виртуальное пространство выступает значимым средством коммуникации между верующими различных религиозных течений, при этом являя собой неиссякаемый источник приобретения виртуального религиозного опыта верующими людьми. Примеров подобных каналов виртуальной коммуникации множество.
-
• Онлайн-проект «Лампада», запущенный в 2006 г., предлагает виртуальный инновационный способ проведения богослужения за пределами храма, совершения молитв перед иконами, зажигания свечей и т. д. Программа «Лампада» позволяет использовать виртуальные (цифровые) формы икон, свечей и т. д., неотличимые от реальных. В стандартный установочный дистрибутив программы входят именослов, православный календарь со значимыми датами и т. д. Выпущена специальная версия программы, рассчитанная для использование в мобильных устройствах. Все версии программы «Лампада» сопровождаются подробным и доступным руководством пользователя и кратким описанием ее мобильных версий.
-
• Сервис «Исповедь онлайн». Папа римский Бенедикт XVI в 2008 г. благословил идею, поданную ему несколькими кардиналами, проводить исповедь онлайн. Как сказал папа римский, «с помощью этого творческого и благоразумного подхода в общении мы рассчитываем стать ближе к молодым людям» [29]. Использование сервиса «Исповедь онлайн» позволит обеспечить одно
из главных условий исповеди – приватность. Также этот сервис, работающий в демонстрационном режиме, позволит прихожанину самостоятельно подготовиться к очной исповеди, предварительно выявить у себя грехи, а затем грамотно сформулировать их. Все это может заметно облегчить первую реальную исповедь со священником.
Подобные явления выступают демонстрацией того факта, что сеть Интернет выступает актуальным каналом коммуникации между верующими различных религиозных течений, при этом являясь источником приобретения ими виртуального религиозного опыта. Виртуальный религиозный опыт – это специфический опыт духовного освоения мира с применением высокотехнологических информационных ресурсов.
О.В. Добродум считает, что, независимо от индивидуального отношения личности к проблеме виртуализации культуры и социума, высокотехнологические информационные ресурсы существенным образом влияют на индивидов, трансформируя их стиль, образ жизни, а соответственно и мировоззрение в целом [30]. При этом нельзя не отметить неоднозначность подобного влияния. Виртуализация культуры неминуемо приводит к революционному влиянию виртуальнотехнологических инноваций и на религию.
Свободный доступ к религиозной информации способствует развитию религий, основанных не на догматических представлениях, а, скорее, на личностных ориентирах и индивидуальной вере в божественное. Ученый также акцентирует внимание на том, что признание нормой множественности религий может привести к значительному ослаблению или полному уничтожению религиозного чувства у верующих, а далее и к окончательному вырождению религии, ее трансформации в некую религиозную симуляцию или игру.
М.С. Петрушкевич считает, что высокотехнологическая информационная реальность сегодня выступает не только плацдармом для межрелигиозного диалога, но также «миссионерским полем», способствующим распространению различных квазирелигиозных идей [31]. При этом необходимо понимать, что разнообразные религиозные организации активно используют информационные каналы не только с миссионерскими целями, но и для сохранения целостности религиозной общины, дальнейшего развития и обеспечения ее самыми актуальными информационными потоками, необходимыми в современных условиях.
А.М. Невшупа акцентирует внимание на том, что у индивидов, чье индивидуальное религиозное мировоззрение превалирует над церковным, ортодоксальным, степень доверия к высокотехнологическим информационным потокам значительно выше [32, с. 83]. Кроме того, ученый отмечает, что современного индивида отличает то, что при повышении уровня его доверия к информационным каналам пропорционально растут его общая информированность и образованность, при этом в целом наблюдается снижение доверия к религиозным организациям. Это приводит к закономерному результату, когда использование высокотехнологических ресурсов значительно понижает авторитет доминирующих религиозных организаций и тем самым провоцирует отклонение от религиозных догм.
Таким образом, религиозная коммуникация в границах виртуального пространства активно подвергается влиянию этого пространства и трансформируется, оказывая влияние на такие проявления религиозной культуры, как религиозное поведение и культовые практики верующих, в сумме формирующие их религиозный опыт, получаемый в виртуальном пространстве электронных сетей. Данная проблема особенно актуальна в условиях перехода к техногенному типу общества. С одной стороны, в данном контексте сохраняются значимость и влияние института религии, который все еще прочно держит высокие позиции в ценностно-мировоззренческой системе общества, а с другой – стремительно набирает темпы виртуализация человеческих отношений, характеризующаяся трансформацией характера межличностных отношений, происходит их переход в иную плоскость виртуального взаимодействия в границах высокотехнологической информационной реальности.
Ссылки и примечания:
Список литературы Виртуальная религиозность как социоантропологический феномен
- Possamai A. Religion and Popular Culture: A Hyper-Real Testament. Brussels, 2005. 176 p
- Михельсон О.К. Сакрализация популярного. Методологические подходы к исследованию religion-like phenomena в современном религиоведении // Вестник СПбГУ. Философия и конфликтология. 2018. Т. 34, № 1. С. 122-137. DOI: 10.21638/11701/spbu17.2018.112
- Храпов С.А., Лопатинская Т.Д. «Виртуальная религиозность»: социокультурная тенденция техногенного общества // Цифровизация общества и будущее христианства: материалы V Междунар. науч. конф. М., 2019
- Смоленков О.В. «Брендовая религия» как феномен новой религиозности: выпускная квалификационная работа. СПб., 2018. С. 8.
- Тейлор Ч. Секулярный век: пер. с англ. М., 2017. 981 с.
- Кырлежев А.И. Постсекулярное: краткая интерпретация // Логос. 2011. № 3 (82). С. 100-106
- Степанова Е.А. Теории секуляризации в «проекте модерна»: возможности и границы // Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук. 2009. Вып. 9. С. 54-73
- Бергер П. Религия и проблема убедительности [Электронный ресурс] / пер. с англ. М. Сокольской // Неприкосновенный запас. 2003. № 6 (32). URL: http://magazines.russ.ru/nz/2003/6/berger.html (дата обращения: 21.05.2008)
- Степанова Е.А. Теории секуляризации в «проекте модерна»: возможности и границы // Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук. 2009. Вып. 9. С. 62.
- Berger P. The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion. N. Y., 1967. 230 p.
- Бевзенко Л.Д. Социальная самоорганизация. Синергетическая парадигма: возможности социальных интерпретаций. Киев, 2002. 437 с
- Добродум О.В. Виртуализация и интернет-религии в Рунете // Социально-философские аспекты религиоведения / отв. ред. Е.И. Мартынюк. Одесса, 2005. Вып. 5. С. 39-64
- Иванкова-Стецюк О.Б. Перспективы модификации дисциплинарного статуса социологии религии // Социология: теория, методы, маркетинг. 2012. № 3. С. 139-149
- Martin D.A. The Sociology of Religion: A Case of Status Deprivation? // The British Journal of Sociology. 1966. Vol. 17, no. 4. P. 353-359.
- DOI: 10.2307/589182
- Невшупа А.М. Религиозное сознание и современное информационное пространство // Социально-философские аспекты религиоведения / отв. ред. Е.И. Мартынюк. Одесса, 2005. Вып. 5. С. 77-92
- Петрушкевич М.С. Религиозная коммуникация и гегемония массмедиа [Электронный ресурс] // Studia Humanitatis: международный электронный научный журнал. 2015. № 4. URL: http://st-hum.ru/node/350/ (дата обращения: 11.01.2017)
- Звонок А.А. Виртуальный религиозный опыт: интернет как средство коммуникации в жизни религиозных конфессий Украины [Электронный ресурс] // Социальные технологии: актуальные проблемы теории и практики. 2015. Вып. 65-66. С. 78-85. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stapttp_2015_65-66_11 (дата обращения: 09.09.2019)
- Демкин А. Исповедь онлайн и подготовка к исповеди [Электронный ресурс]. URL: http://www.town812.ru/ispoved-online.shtml (дата обращения: 09.09.2019)
- Невшупа А.М. Религиозное сознание и современное информационное пространство // Социально-философские аспекты религиоведения / отв. ред. Е.И. Мартынюк. Одесса, 2005. Вып. 5. С. 83.