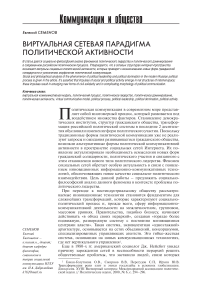Виртуальная сетевая парадигма политической активности
Автор: Семенов Евгений Евгеньевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Коммуникации и общество
Статья в выпуске: 4, 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье дается социально-философский анализ феноменов политического лидерства и политического доминирования в современном российском политическом процессе. Утверждается, что в сетевых структурах интернет-пространства возникают импульсы социально-политической активности, которые приводят к возникновению новых форм гражданской солидарности и усложнению морфологии политической коммуникации.
Виртуальная коммуникативная модель, политический процесс, политическое лидерство, политическое доминирование, политическая активность
Короткий адрес: https://sciup.org/170166879
IDR: 170166879
Текст научной статьи Виртуальная сетевая парадигма политической активности
П олитическая коммуникация в современном мире представляет собой многомерный процесс, который развивается под воздействием множества факторов. Становление демократических институтов, структур гражданского общества, трансформация российской политической системы в последние 2 десятилетия обусловили изменение форм политического участия. Поскольку традиционные формы политической коммуникации уже не реализуют запросы и ожидания развивающегося гражданского общества, возникли альтернативные формы политической коммуникативной активности в пространстве социальных сетей Интернета. Их появление актуализировало необходимость осмысления новых форм гражданской солидарности, политического участия и связанного с этим становления нового типа политического лидерства. Феномен социальных сетей обретает особую актуальность в связи с появлением инновационных информационно-коммуникативных технологий, обеспечивающих новое качество социально-политического взаимодействия. Цель данной работы – предложить социальнофилософский анализ данного феномена в контексте проблемы политического лидерства.
СЕМЕНОВ Евгений
При переходе к постиндустриальному обществу рассматриваемые инновационные технологии становятся фундаментом для сложнейших трансформаций, которые характеризуют социальнополитический процесс и, прежде всего, сферу информационнокоммуникативной деятельности на межличностном, групповом, массовом уровнях. Правительства, подобно бизнесу, начинают действовать «в обход своих иерархий», создавая «гораздо более подвижную, разнородную систему с постоянно меняющимися центрами власти». Такая система, эквивалентная «одноэтажной» архитектуре, основывается на сетях объединений, консорциумов, специализированных управляющих агентств. Это гибко-жесткая система, основанная на новых коммуникационных технологиях, где нет вертикального управления1.
Еще в 1980-х гг. американский социолог Дж. Нейсбит увидел причину зарождения сетей в неспособности иерархий решить общественные проблемы, что заставило людей, связи которых были в основном направлены внутрь иерархической структуры, говорить друг с другом помимо этой структуры, обмениваться звонками, ресурсами, контактами, информацией. Так начинались антивоенные, экологические, женские движения. Сети, по Нейсбиту, – это люди, которые общаются друг с другом, делясь идеями, информацией и ресурсами. Главное здесь не сама сеть (network), т.е. готовый продукт, а процесс ее создания (networking), процесс попадания в нее – общение, создающее связи между людьми и группами людей1.
Представляется, что развитие сетевого принципа становится характерным для многих сфер социального взаимодействия, которые все в большей мере включают неформальные связи, правила поведения, принципиально отличающиеся от устоявшихся традиционных норм. Неформальные институты все чаще трактуются в исследовательской литературе как проявления «естественной», «имманентной», «добровольной» солидарности, выступающей важным источником социальной интеграции. Особенности социальной организации «солидарных» (неформальных) институтов квалифицируются как своего рода символический капитал (доверие, нормы, структуры), рождающий тягу к сотрудничеству. Коллективная солидарность подобного рода, как правило, носит «горизонтальный характер» и воплощается в дискурсивных практиках гражданского коммунитаризма и либера-лизма2.
Эпохе массовой демократии была свойственна огромная концентрация власти на уровне государства (форма привязанной к территории социальности). Стремительный рост инновационных информационно-коммуникационных технологий в постиндустриальном обществе способствует взрыву сетевого принципа, который находит свое яркое воплощение в самоорганизации различного рода коммуникативных социальных сетей. Применение инновационных технологий в коммуникативной сфере модифицирует все звенья коммуникативного процесса: увеличивает число медиа-акторов на рынке информационных услуг, изменяет технологии создания информационных продуктов, систему их транзита к потребителям и, наконец, создает возможность выбора источников информации для самой аудитории.
В модели стратификационного общества «лидерство» и «доминирование» – понятия коррелирующие и образующие единое предметное поле для анализа. Если в иерархических коммуникациях алгоритмы информационного обмена задавала власть, похожая, по выражению П.А. Сорокина, на центральную, единственную в обществе динамо-машину, приводящую в движение манекены и регулирующую их действия3, то в сетевых горизонтальных коммуникациях рождалась такая форма связи и взаимодействия, которая полностью изменила модель повседневности. В XXI в. коммуникативные сети становятся своеобразным рабочим инструментом «человека инновационного», сети составляют новую социальную морфологию обществ.
В классификации социальной коммуникации, предложенной Й. Бордвиком и Б. ван Каамом4, выделяются 4 модели: вещательная, консультационная, регистрационная и диалоговая. Если 3 первые модели имеют вертикальный характер коммуникации, то диалоговая модель представляет собой горизонтальную коммуникацию, в процессе которой происходит максимальное удовлетворение информационных и коммуникативных потребностей коммуникантов. Впрочем, наиболее часто используемыми видами коммуникаций в системе социальнополитических отношений являются вертикальные коммуникации. Модель вещательной (асимметричной) коммуникации наиболее органична для традиционных форм политического взаимодействия, непременным условием которых является установление иерархических взаимоотношений по системе «центр – периферия». Именно такая форма коммуникации устанавливается между политическим лидером и его аудиторией.
Кроме того, наибольшая востребован- ность вещательной модели обусловлена и технологическим возможностями традиционных масс-медиа, опосредующих политическую коммуникацию. В этой коммуникативной модели адресант всегда активен и действует как передатчик, а адресат всегда пассивен и действует только как приемник. Технологии традиционных масс-медиа исключают реальную возможность интерактивной (диалоговой) коммуникации.
Однако в интернет-коммуникациях возникают совершенно иные условия коммуникативного взаимодействия. Там источник и получатель информации обладают не только равными правами, но и равными технологическими возможностями, обеспечивающими их паритетное влияние на процесс формирования контента. В этих технологических условиях отсутствует понятие центра и периферии, участники коммуникации могут меняться ролями, переходя от состояния пассивного к активному и наоборот. Именно такая форма коммуникации (обеспеченная технологически) и может называться интерактивной. Равноправие коммуникаторов обеспечивает диалоговость коммуникации, формируя горизонтальную коммуникативную модель, получающую наибольшее распространение в формате социальных сетей и блогосфере.
Если обратиться к недолгой истории социальных коммуникативных сетей, то можно увидеть, что импульсом к их возникновению стала не находившая удовлетворения потребность в информации, которая достаточно долгое время сдерживалась иерархическими структурами, прежде всего государством, в новой информационно-коммуникативной среде, где происходит постоянный и неконтролируемый обмен информацией.
Ведущей мотивацией участника сетевой коммуникации является поиск ответов на запросы, связанные с его ценностными ориентациями, актуализация его индивидуальных и гражданских потребностей, в т.ч. интеграции в систему политического участия.
Одним из важнейших условий удовлетворения этих потребностей является не столько технологическая возможность осуществления интерактивной субъект-субъектной связи, сколько коммуникативно-информационный обмен (диалог) с равными себе. Исчезает монополия лидера на формирование информационных потоков, создается возможность для граждан, общественных организаций стать активными и сознательными участниками политического процесса. Происходит диверсификация источников информирования, появление у массового субъекта возможности создавать собственные информационные продукты. Активизирующиеся в таких условиях культурные механизмы политических информационных обменов сглаживают различия между частной и публичной сферами жизни человека, порождая богатство информационных запросов и конкуренцию производителей интеллектуальной продукции.
Однако реальность сетевых политических коммуникаций, несмотря на равные стартовые условия, делает возможность реализации этих потребностей иллюзорной. В реальности сетевых коммуникаций нередким явлением становится появление некоего коммуникативного активиста, который очень быстро занимает позицию информационного лидера и начинает позиционировать себя как сетевого агента влияния. Он привлекает участников коммуникации тем, что наиболее точно вербализует общие запросы и ожидания, формулируя актуальную для них систему взглядов, мировоззренческих подходов и систему ценностей. Возможно ли увидеть в этой фигуре тип нового политического лидера?
Существует, на наш взгляд, ряд факторов, которые не позволяют однозначно ответить на этот вопрос.
Лидерство – это постоянное приоритетное влияние. Плотность и регулярность социальной коммуникации – одна из необходимых констант политической системы. В то время как сетевой политической активности в большей степени присущ характер спорадической коммуникации. В этой ситуации актуализация лидерства лишена устойчивости, необходимой для доминирования. Сетевой агент является скорее катализатором политической активности, отвечая на существующий в сетевом сообществе запрос на ревизию ценностных комплексов иерархического общества.
Политическое лидерство, по Ж. Блонделю, состоит в способности воздействовать на других участников политического процесса в целях интеграции совместной деятельности, направленной на удовлетворение интересов данного со -общества. Формально коммуникативный активист начинает с реализации этой за -дачи, собирая в фокус интересы группы и артикулируя их. В процессе обеспечения интеграции этой совместной деятельно сти он создает свод правил, законов и табу, ограничивающих свободу своего сетевого сообщества, в т.ч. свободу выражения политических интересов, в то время как ценность свободной коммуникации при знается базовой ценностью Интернета. Отличие в том, что контроль информации и ресурсов переходит от больших институ-тов к индивидам, что приводит в т.ч. и к негативным изменениям, выражающимся в сужении круга информации и на индиви дуальном, и на общественном уровне, раз мывании общественного и политического дискурса. Вместе с тем существует опас ность, что человек сетевой превращается в одно из программно аппаратных средств киберпространства, которое открывает доступ к внутреннему пространству чело веческой личности и предоставляет широ кие возможности целенаправленной ма нипуляции им, т.е. переводит его развитие в сферу электронной несвободы1.
Многие исследователи интернет -коммуникации в качестве доминирующей формы социальности прогнозируют сете вой индивидуализм. Новая политическая динамика демонстрирует модель поведе ния в интернет среде, которая проявля ется в способах самоорганизации, самопу бликации и самостоятельном построении сетей. Все эти принципы рождают кон курентную коммуникативную модель, исключающую угрозу иерархизации. Возникающая в горизонтальном комму никативном пространстве социальных сетей традиционная иерархическая стра тификация может быть паллиативом, а не перспективной развивающейся формой.
В результате открытое сообщество пре вращается в закрытое, для входа в кото рое необходимо строго соответствовать установленным стандартам. Характерной особенностью этой коммуникативной си туации является то, что различные сетевые комьюнити, имеющие противоположные политические взгляды и различные по литические ценностные ориентации, не поддерживают между собой диалоговые отношения. Коммуникация между ними лишается признаков элементарной толе рантности. Принцип социальной организации таких сообществ напоминает за крытые секты или клановые структуры.
Потенциально диалоговое пространство политических коммуникаций в блогосфере или социальных сетях, монополизирован ное коммуникативными активистами, трансформирует процессы гражданской активности в «войну всех против всех», по определению Т Гоббса.
Глобализирующийся мир вовлекает че-ловека одновременно во множество новых политических взаимодействий и превра щает смысл этих взаимодействий в нечто ситуационное, преходящее, что не спо собно формировать устойчивые человече ские общности. Вовлекаясь в глобальные функциональные связи и взаимозависи мости, сетевые сообщества одновременно все более фрагментируются изнутри. Все более мельчают или вовсе исчезают ма кросоциальные ансамбли, способные объединять людей общими жизненными смыслами2. Лишенные институционального каркаса, эти формы политического участия не приводят к формированию востребованного современным обществом политического лидера.
Одним из обязательных условий лидер ства является обладание властью в кон кретных формальных и неформальных организациях. Сетевой агент влияния выступает как лидер технически создан ного, но отсутствующего в реальности сообщества. Нетранспарентность сетевой коммуникации приводит к неверифици руемости контента, «запуску» симулякров, манипулированию символами. Эти фак -торы существенно изменяют систему по литического посредничества, позволяют коммуникатору оставаться анонимным и вследствие этого создают, на наш взгляд, позиции неподтверждаемого лидерства, или квазилидерства. Глобальное изме рение нового мира усиливает позиции нестабильности. Тем не менее сетевые активисты аккумулируют вокруг себя «резонирующую общественность», по терминологии Ю. Хабермаса, которая, в свою очередь, начинает активно влиять на политическое общество и на реальные политические процессы. В таком контек-сте неинституционализированного поли -тического взаимодействия формируется субъект политического участия на основе новой коллективной идентичности.
Вернемся к анализу политического участия. Одной из форм его реализации является политический ритуал. Ритуалы всегда разворачивались в сакральном пространстве. Вне символического мира культурных ценностей идеи не могли су -ществовать. Возможно, в будущем мы увидим, как традиции политических ри туалов рождают собственную культуру се -тевых сообществ. Сейчас же наблюдение показывает, что политические ритуалы в сети довольно редки, носят поверхност ный, формальный характер, не задевая культурный мир человека. Именно это позволяет современному «сетевому» чело -веку становиться участником не одного, а нескольких сообществ, взаимодейство вать на различных уровнях, с различной степенью участия и погруженности. Эти нормы дают возможность устанавливать собственные границы свободы в сообще стве и в меньшей степени ощущать необ-ходимость в лидере.
Сетевой политический активизм пара доксальным образом вызывает сужение коммуникативных связей в реальном политическом процессе. Ограничение гражданского общества рамками гори зонтальных связей и отношений застав ляет гражданские структуры «вариться в собственном соку», ведет к недооценке важности их взаимодействия с политиче скими партиями и государством1.
Российская политическая эмпирика свидетельствует о том, что сетевое домини -рование активизируется исключительно в электоральном процессе и вовлекает в по литические сетевые сообщества потенци альных избирателей, создавая платформы для артикуляции не всего спектра полити ческих интересов, а лишь интересов элек торальных. Очевидно, что в «расколотом обществе» возникает и «расколотая лич ность», где ценностный горизонт замкнут границами выборных процедур.
Подводя итог сказанному, можно пред -ложить следующие выводы. В изменяю щемся коммуникативном пространстве постиндустриального общества, на новой виртуальной «территории» воз никают заметные импульсы социально политической активности, которые приводят к возникновению новых форм гражданской солидарности. Глобальное измерение нового мира существенно модифицирует коммуникативную актив ность в информационном пространстве, создавая новый тип сетевого политиче ского доминирования.
Необходимо разделить два понятия: «сетевой агент влияния» и «политиче ский лидер» в традиционном понимании. Позиции сетевого агента влияния не со ответствует ряду критериев, необходимых для политического лидера. Ситуацию воз никающего доминирования постоянно разрушает принцип симметричности однородных поведенческих ожиданий, обладание равными информационно коммуникативными ресурсами. Возни кающая в горизонтальном коммуникатив ном пространстве социальных сетей тра диционная иерархическая стратификация может быть паллиативом, а не перспектив ной развивающейся формой, создающей условия, поддерживающие статус лидера.
В условиях виртуальной коммуникации сетевой агент влияния осуществляет до минирование, собирая в фокус групповые интересы (Р Стогдилл), а в ситуации реаль -ной политики становится квазилидером, не способным конкурировать с традицион ным политическим лидером, и престает от вечать актуальным политическим запросам общества. Субъекты сетевой политической коммуникации, персонифицированные в образах сетевых квазилидеров, скорее явля-ются катализаторами политической актив ности, отвечая на существующий в сетевом сообществе запрос на ревизию ценностных комплексов иерархического общества. Но при этом сетевые активисты аккумулируют вокруг себя «резонирующую обществен ность», которая начинает активно вли ять на реальные политические процессы. В определенных условиях существует воз -можность трансформации коммуникатив ного активиста, сетевого агента влияния в лидера.