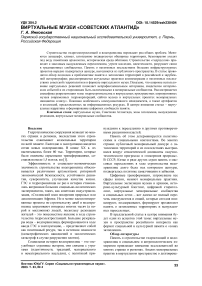Виртуальные музеи «советских Атлантид»
Бесплатный доступ
Строительство гидроэлектростанций и водохранилищ порождает ряд общих проблем. Меняются ландшафт, климат, затоплению подвергаются обширные территории, безвозвратно уходят под воду памятники археологии, историческая среда обитания. Строительство «гидроузлов» приводит к массовым вынужденным переселениям, утрате наследия, идентичности, разрушает связи в традиционных сообществах. Память о негативных последствиях больших инфраструктурных проектов нередко подвергается цензуре, вытесняется из публичного пространства. В статье проводится обзор подходов к проблематике памяти о затоплении территорий в российской и зарубежной историографии; рассматриваются актуальные практики коммеморации о негативных последствиях советской гидрополитики в формате виртуального музея. Показано, что широкое использование виртуальных решений позволяет непрофессиональным историкам, свидетелям исторических событий и их сторонникам быть включенными в мемориальные сообщества. Рассматривается специфика репрезентации темы гидростроительства в виртуальных пространствах корпоративных музеев современных гидрокорпораций, сайтов музеев и виртуальных проектах мемориальных инициатив «снизу». Показана особенность коммуникативного менеджмента, а также артефактов и коллекций, представленных на информационных ресурсах. В центре внимания статьи - виртуальные нарративы и формирование цифровых сообществ памяти.
Виртуальные музеи, советская атлантида, зоны затопления, вынужденная релокация, виртуальные мемориальные сообщества
Короткий адрес: https://sciup.org/147241823
IDR: 147241823 | УДК: 304.2 | DOI: 10.14529/ssh230404
Текст научной статьи Виртуальные музеи «советских Атлантид»
Гидротехнические сооружения возводят во многих странах и регионах, последствия этого строительства охватывают колоссальные территории по всей планете. Ежегодно в эксплуатацию вводятся сотни новых водохранилищ. В конце ХХ в. их насчитывалось более 60 тыс. Территории, которые были охвачены серьезными трансформациями, составляли около 1,5 млн кв. км [1].
Эффективность и социально-экономическая значимость строительства водохранилищ обосновывается различными аргументами: риторикой экономической безопасности, устойчивого развития, суверенитета, улучшения качества жизни. ГЭС и гидрохранилища не раз в истории становились витринами больших социально-политических экспериментов, таких, как советская индустриализация, «Сталинский план покорения природы» или деколонизация Африки. Но и менее идеологизированные проекты по строительству дамб и водохранилищ затрагивают интересы многих тысяч (а порой и миллионов) людей, поскольку релокация жителей - это повсеместное явление в ходе строительства гидроэлектростанций. Большие резервуары воды - водохранилища, формирующиеся в ходе ввода ГЭС в эксплуатацию, - представляют собой как позитивный ресурс, так и источник опасности (катастрофических наводнений и экологических катастроф в случае разрушения плотин).
Социальная история водохранилищ - это «неудобные» страницы истории, они связаны с утратами (идентичности, традиций, материального и нематериального наследия), с политикой при- нуждения к переселению и другими противоречивыми решениями властей.
Память об этом детерминируется политическими и социальными контекстами. Во многих странах публичный мемориальный дискурс о затоплениях территорий и их последствиях выстраивался вокруг семантической доминанты «научнотехнического прогресса» и «покорения природы». В СССР, Китае и ряде других стран память о массовых переселениях в ходе строительства водохранилищ долго была под контролем цензуры, подвергалась политике замалчивания и забвения.
Цифровые трансформации, затронувшие все сферы жизни, меняют мемориальные практики. Виртуальные экспозиции музеев и архивов, историко-культурный блоггинг, цифровой сторител-линг, виртуальные мемориальные сообщества в социальных сетях - вот далеко не полный перечень инструментов и опций, которые сегодня инициируют, поддерживают, формируют продвигают память о затопленных территориях и вынужденных переселенцах.
В предлагаемой статье в центре внимания будет один из аспектов этой темы: виртуальные музеи в пространстве российского интернета как формат социальной и культурной памяти о «зонах затопления».
Обзор литературы
Память о строительстве гидростанций и водохранилищ в социальном и антропологическом измерении привлекает внимание исследователей во многих странах и регионах. Анализ мемориальных практик в виртуальном пространстве о долговреме- нных последствиях гидрополитики предполагает междисциплинарные пересечения культурной географии, устной истории, культурной антропологии, культурной истории технологий и других подходов. Спектр тем для интерпретации в пространстве виртуальных музеев широк.
В первую очередь объектом анализа и рефлексии становится релокация жителей прибрежных территорий. Именно они непосредственно испытывают на себе социальные и экологические последствия гидрополитики. Так, в Бразилии исследовали память жителей деревни Сенто-Се (Sen-to-Sé), которые вынуждены были переехать в город после строительства плотины Собрадинхо (Sobradinho, 1973). Опираясь на устные интервью, публикации в прессе, документы, фотографии, авторы исследования анализировали факторы, которые порождают у вынужденных переселенцев чувство оторванности от своих исторических корней и ощущение детерриторизации. В целом в Бразилии более одного млн жителей вынуждены были оставить свои земли в результате строительства гидроэлектростанций [2]. В Китае в исследованиях о принудительном переселении при строительстве гигантского водного резервуара «Трех ущелий» приоритетной была задача строительства гигантской дамбы, обеспечивающей производство электроэнергии, контроль над уровнем воды, навигацией. Гораздо меньше внимания уделялось социальным проблемам, порожденным строительством гидрохранилища [3].
Большие резервуары воды могут восприниматься как пространство рекреации, туризма, выходного дня. Но они же выступают источником чувства опасности, страха из-за угрозы катастрофических наводнений. Так, в современной России самые высокие риски от потенциального затопления территории в случае разрушения водохранилищ, ассоциируются с каскадом ГЭС, возведенным в Сибири на реках Ангара и Енисей [4].
В целом в литературе не раз история водохранилищ рассматривалась с точки зрения «политической экологии эмоций», связанной с сакральными пространствами и борьбой с гегемонистскими подходами к управлению природными ресурсами, когда социокультурным последствиям уделяется минимальное внимание [5].
Переселение людей, затопление обжитых территорий, гибель материальных объектов, символических мест памяти наносит урон локальным сообществам, о чем убедительно размышляет Х. Гриффитс, когда рассматривает долговременные последствия создания водохранилища и затопления валлийской деревни в 1965 г. [6].
Противоречивость социальных и гидрологических последствий масштабного инжиниринга при строительстве водохранилищ показана и в исследованиях на материалах Финляндии [7]. В ряде стран наиболее уязвимыми группами населения при строительстве плотин и водохранилищ становятся индигенные группы населения (в России, Канаде, Бразилии, странах Африки). И, как следствие, критика водохранилищ соотносится с вопросами сохранения культурной идентичности, традиционных мест проживания. Так, например, эта проблематика резко обострялась в ходе создания крупных инфраструктурных гидропроектов в Африке – водохранилища Кахоре Баса в Мозамбике, водохранилища на реке Вольта и других объектов [8].
В СССР критическая рефлексия о негативных последствиях строительства водохранилищ стала возможной в середине 1970-х гг. А после распада СССР эта тема стала постоянно звучать в публичном пространстве [9].
Драма затопления населенных территорий коснулась жителей многих регионов современной России и республик бывшего Советского Союза. Первой с масштабными последствиями строительства крупного гидроузла столкнулась Украинская ССР. При строительстве Днепрогэса в начале 1930-х гг. было затоплено 16 тыс. га земель, на которых было расположено 56 населённых пунктов (из них 14 были затоплены полностью). В 1950–1970-е гг. при строительстве Кременчугской ГЭС были затоплены 186 населенных пунктов, почти 200 тыс. га высокоплодородных черноземов, 47 тыс. га лесов, почти тысяча километров автомобильных дорог и около 4 тыс. различных зданий. Ушли под воду многие исторические поселения, значимые для формирования национальной украинской идентичности (Крылив, Бужин, Желнино, Воинь). Трудным был процесс принудительного переселения жителей при строительстве Киевской и Каневской ГЭС. С 2000 г. в Украине набирает силу «ретроспективный протест». Этим термином характеризуют преодоление самоцензу-ры памяти бывших переселенцев с затопляемых территорий. В советском политическом режиме публичности они не решались на воспоминания и критическую рефлексию о своем травматическом опыте утраты дома и привычной среды. В новых обстоятельствах вынужденные переселенцы активно включились в практики коммеморации о затопленных территориях [10].
В целом специфика реализации «Сталинского плана преобразования природы» в различных республиках СССР вызывает все больший интерес, поскольку позволяет ставить вопросы о субъектности местной элиты при реализации советской гидрополитики [11].
В России самым медийным кейсом в истории российских «Атлантид» является история затопления территорий при формировании Рыбинского водохранилища, когда был полностью затоплен исторический город Молога, частично – города Весьегонск, Мышкин, Пошехонье, Череповец. Общее количество переселенцев в Ярославской области составило не менее 130 тыс. человек. На дне Рыбинского моря оказались около ста храмов и часовен, три монастыря.
Крупнейшие реки Европейской части СССР Волга и Кама превратились к 1970-м гг. в каскад водохранилищ [12]. В 1960–1970-е гг. в Западной Сибири появляются несколько «морей» – водохранилищ, возникших в результате строительства Братской, Иркутской, Новосибирской и других ГЭС.
Несмотря на тот факт, что сотни тысяч жителей различных регионов Советского Союза оказались в той или иной степени затронуты негативными последствиями гидростроительства, эта проблематика длительное время была периферийным сюжетом российской мемориальной культуры. Ситуация меняется на протяжении последних 20 лет. Социальные последствия гидростроительства исследуются в рамках академической истории, получают новые толкования в музейных нарративах, порождают историко-культурный активизм и репрезентируются в цифровых проектах.
Методы исследования
Виртуальные музеи часто становятся местом памяти о затопленных территориях. Именно этот ракурс и будет в дальнейшем предметом обсуждения. Важно определиться с содержанием гибкого термина «виртуальный музей».
Дискуссии о семантической рамке понятия «виртуальный музей» активно ведутся уже более 30 лет. Термины и концепции виртуального музея меняются по мере развития технологий и музейных практик. Характерным в этом контексте является высказывание Энн Лафоре: «Очень сложно дать определение “виртуальному музею”, поскольку этих определений ровно столько, сколько людей интересуются этой темой» [13]. В дальнейшем мы будем придерживаться определения, предложенного Н. Г. Поврозник: «Виртуальный музей – это информационная система, содержащая концептуально единую электронную коллекцию или совокупность коллекций предметов (экспонатов) с метаданными, имеющая характеристики музея и позволяющая осуществлять научную, просветительскую, экспозиционную и экскурсионную деятельность в виртуальном пространстве» [14].
Опираясь на это определение виртуального музея как систематизированной коллекции цифровых артефактов, информационных и коммуникативных ресурсов, нами был проведен анализ следующих источников. В первую очередь рассматривались сайты, которые, во-первых, специализируются на теме гидростроительства или затопления территорий и, во-вторых, сами себя именуют музеем (сайты ведомственных, государственных и локальных музеев). Далее были выявлены и проанализированы персональные сайты, интернет-проекты и аккаунты в социальных сетях активистов коммеморации о зонах затопления при строительстве водохранилищ. Еще одну группу источ- ников составляют проекты и аккаунты мемориальных сообществ, объединенных темой релокации жителей затопленных территорий. Внимание было сосредоточено на том, заявлена ли в выбранном источнике концепция / музейная интерпретация темы негативных социальных последствий гидрополитики, на решение какой значимой проблемы настроен тот или иной виртуальный музей, какие артефакты представлены в источниках, какой коллекционной или экспозиционной идеей они объединены, сопровождаются ли аннотациями, метаданными, комментариями экспертов, демонстрируется ли провенанс (история владения и происхождения). Важным аспектом анализа был вопрос о форматах и типах коммуникации в виртуальном пространстве.
Результаты и дискуссия
Виртуальные музеи современных российских гидрокорпораций ориентированы на глорифика-цию отрасли, на позиционирование бизнеса в публичном пространстве, рекрутинг будущих сотрудников через эдьютеймент, формирование корпоративных ценностей и культуры. Центральное место в этой сети музеев занимает единый учебнопроизводственный информационный центр Гидроэнергетики, открытый в 2007 г. на базе административного здания ГЭС в городе Углич Ярославской области. Филиалы этого единого центра функционируют на всех крупных ГЭС, входящих в корпорацию РусГидро. Музеи РусГидро также ориентированы на развитие индустриального туризма, повышение туристической привлекательности территории [15]. Схожие задачи решают музе-ефицированные объекты гидроэнергетики, входящие в европейский маршрут индустриального наследия [16].
Названный выше музей гидроэнергетики в Угличе анонсируется так: «Музей гидроэнергетики – один из пяти лучших региональных музеев России. Его экспозиция – удачная попытка охватить необъятное: рассказать о развитии гидроэнергетики, советских и российских ГЭС и выдающихся учёных, благодаря которым появились Угличские и другие ГЭС. Здесь разрешено трогать экспонаты. Попробовать выработать электрический ток можно на велотренажере и “посетить” гидроэлектростанцию в стереозале» [17]. В экспозиции (реальной и виртуальной) этого музея вопросы затопленных территорий не поднимаются. Ведомственные музеи гидроэнергетики поднимают вопросы о «трудном» советском прошлом, но затрагивают такую его страницу, как использование принудительного труда, системы ГУЛАГА при строительстве ГЭС.
Виртуальный тур и экспонаты транслируют большой нарратив о значимости гидроэнергетики, «…сыгравшей ключевую роль в становлении российской экономики» [18]. У корпоративного музея в Рыбинске созданы филиалы во многих регионах, где работают ГЭС, входящие в корпорацию РусГидро. Музей и его филиалы работают непосредственно на территориях ГЭС, т. е. подчиняются особому режиму безопасности. Посетитель имеет к офлайн-экспозиции ограниченный доступ. В этом контексте виртуальная экспозиция, у которой нет ограничений по доступу к информации, могла бы стать многопрофильным информационным ресурсом. Однако за вывеской / адресом в строке браузера виртуального корпоративного музея нередко обнаруживается имитация виртуального музея в виде информационной страницы с небольшим набором текста и фотографий. На ней нет ни виртуального тура, ни коллекции, ни описания музейных предметов, ни других музейных опций. Мемори-нарратив не встроен в виртуальное пространство. Часто современные корпоративные музеи создаются там, где до распада СССР функционировали «народные ведомственные музеи». Но прямой преемственности и памяти об этом не прослеживается.
Виртуальная составляющая в таких реально существующих музеях играет все возрастающую роль. За последние 20 лет создано несколько музеев, тематическим приоритетом которых являются затопленные территории. Одним из них стал проект «Музей затопленных святынь Мологского края» [19]. Экспонаты и технологические решения музейных экспозиций в нем формируются по материалам подводной «исторической археологии». В ходе экспедиций проводится видеодокументация выявленных мемориальных объектов – сохранившихся набережных, фундаментов домов и церквей, материальных объектов. В дальнейшем создаются 3D-модели затопленных усадеб, голограммы утраченных ландшафтов, цифровые реконструкции звуков колоколов затопленных церквей. Исследовательский, экологический и туристический проект получил поддержку Русского географического общества, муниципалитета, бизнеса. Итогом стало открытие музея, в котором виртуальные музейные решения доминируют.
Однако экспозиция этого музея переводит разговор о затоплении территорий в регистр «чуда», зрелища цифрового «воскрешения» погибших городов, зданий, предметов. Персональная память об опыте переживания релокации переселенцев нуждается в других форматах.
Виртуальные пространства становятся точкой сборки локальных сообществ. Это формальные и неформальные объединения переселенцев, их родственников и потомков, которые осознают себя как сообщество, объединенное общей судьбой и памятью о затопленных территориях. Сообщества институционализируются, конструируют мемориальные ритуалы, места памяти, порождают нарративы. Сообщество-долгожитель такого типа – землячество мологжан – сложилось еще в СССР в 1972 г. и было формой позднесоветского исторического активизма. Землячество мологжан и сегодня остается уникальным примером сохранения памяти об исчезнувшем городе и крае. Чтобы сохранить память о Мологе, в Рыбинске в 1995 г. был открыт Музей Мологского края, который позиционирует себя как «единственный в мире музей затопленных территорий». Землячество инициирует разработку многочисленных интернет-ресурсов, туристических маршрутов, документальных и художественных фильмов о Мологе, питает энергией движение «Прости, Молога» и другие практики коммеморации.
«Кежемское землячество» с 1997 г. объединяет жителей старожильческих поселений русских приангарья. Оно объединяет тех, для кого прощание с родиной растянулось на несколько десятилетий строительства Богучанской ГЭС на Ангаре. Проведенные исследования показывают, что ликвидация стабильных семейных и дружеских связей неизбежно сопутствует вынужденным миграциям. Ситуация усугубляется тем, что при планировании строительства гигантских ГЭС власти не учитывали интересы местного населения ни в советский, ни в постсоветский период. Так, большинство жителей затопленных сел на Ангаре сейчас проживает в пригородах крупных городов, таких как Красноярск и Абакан, и быстро теряет свою прежнюю идентичность. Уникальная местная культура потомков поморов, переселившихся на берега Ангары несколько столетий назад, утрачена в результате вынужденного переселения [20].
С утратой малой родины соцсети стали местом виртуальной встречи земляков [21]. Поскольку переселение из обжитых районов для представителей этого сообщества памяти – совсем недавняя история (прощание с селом Кежма состоялось в 2009 г.), то его участники пользуются современными медийными средствами сопротивления и критики действий власти и бизнеса в ходе строительстве Богучанской ГЭС.
Виртуальные музеи, существующие только в интернете, часто являются плодом деятельности мнемонических пассионариев, которые выступают инициаторами и драйверами коммемораций. Один из самых ярких тому примеров – деятельность Анзор Тукаевой и благотворительного фонда «Центр возрождения культурного наследия «Крохино» [22]. С 2010 г. фонд занимается сохранением и консервацией церкви Рождества Христова в деревне Крохино, сохранившейся при наполнении Шекснинского водохранилища. Несколько лет сотрудники фонда и волонтеры собирали архивные, устные и материальные свидетельства. Виртуальный музей, созданный по результатам и в ходе этой деятельности, стал фактически цифровым местом памяти и площадкой для выстраивания сетевых взаимодействий, как это произошло в рамках выставки «Незатопленные истории» с участием центральных, региональных, государ- ственных и частных музеев, которые присылали фотографии, воспоминания жителей затопленных территорий, архивные данные о переселениях и строительстве гидроэлектростанций из Центральной, Южной, Северной, Восточной и Западной частей России. Выстраивание таких коммуникативных сетей становится программной задачей команды фонда, прямо заявляющей: «Крохино, главный символ и маяк ушедшего под воду Бело-зерья. Однако мы идем дальше, увеличивая масштаб и не забывая о судьбе других территорий. Их истории, скрытые как под толщей воды, так и под грузом исторического забвения, имеют шанс стать незатопленными» [23]. Для создания выставки команда фонда «Крохино» связалась с 65 краеведческими и историческими музеями, к сотрудничеству подключилось более 20 музеев со всей страны, чтобы по кусочкам собрать воспоминания и объединить их в виртуальную экспозицию.
Цифровой музей «История и наследие водных путей Белозерья» [24] возвращает перемещенных лиц к реальному месту памяти - полуразрушенному храму на месте затопленной деревни Крохино. Виртуальный музей становится драйвером «реальной» музеефикации. Собираемые экспонаты обретают голос, обрастают историями, встраиваются в нарратив. Таким образом они обретают ауру аутентичности. С другой стороны, в виртуальном музее вопрос подлинности экспоната отходит на второй план. Приоритет отдается самому предмету, материальному свидетельству, которое становится маркером места, территории, биографии «маленького человека» на фоне «большой» истории. У многих экспонатов, поступивших в фонд Крохино и представленных в виртуальном музее, нет достоверного провенанса, да он и не всегда запрашивается.
Этнографы, фольклористы накопили массив устных рассказов переселенцев с затопленных территорий во многих регионах России и бывших союзных республик СССР. Они отмечают очень важную и общую черту этих воспоминаний: постепенную фольклоризацию. Она проявляется в клишированных речевых оборотах, повторяющихся мотивах. Исследователи Е. Клюйкова. С. Брюханова, С. Королева к таким универсалиям относят общую ностальгическую, некритическую интонацию по отношению к ушедшему под воду дому: идеализацию утраченного места окружающей его природы, локации, межличностных отношений; противопоставление нового места старому [25, с. 23–24]. Аналогичные черты прослеживаются в документах, представленных на сайте виртуального музея.
Реализация этого низового негосударственного мемориального проекта зависит от поддержки филантропических организаций и краудфандинга, осуществляемого в виртуальной среде. Донаты пользователей социальных сетей виртуального музея не только помогают реализовать проекты по благоустройству и созданию комфортной среды вокруг руин храма в Крохино. Эта социальная технология является первым шагом на пути к мемориальному волонтерству, к сетевому сообществу, объединенному культурой участия. Так виртуальный музей форсирует оффлайновую мемориальную активность по ревитализации почти утраченного историко-культурного наследия.
Выводы
Различные формы коммеморации о противоречивых социальных последствиях больших инфраструктурных гидропроектов функционируют во многих странах мира. Строительство водохранилищ применяется повсеместно для решения эконмических и социальных проблем, порождая схожие проблемы (релокация больших масс людей, утрата исторического ландшафта и историкокультурного наследия и т. д.). В современном мире виртуальные мемориалы и музеи затопленных территорий становятся универсальным форматом новой цифровой памяти об издержках глобальных технологических проектов преобразования природы и социального инжиниринга.
В современной России виртуальные музеи, сфокусированные на гидрополитике и памяти о ее социальных последствиях, демонстрируют типичные черты функционирования памяти в цифровой среде. Контент виртуальных музеев структурирован в виде информационного ресурса. События прошлого представлены в формате цифровых текстов, документов, визуальных образов, исторических нарративов, цифровых экспликаций музейных предметов, таймлайнов и других репрезентаций / интерпретаций следов прошлого. Виртуальные музеи функционируют как онлайн-мемориал / место памяти [26]. Они берут на себя инициативу по консолидации низового мемориального активизма, по выстраиванию сетевых взаимодействий.
Не менее важным аспектом функционирования виртуального музея становится событийный менеджмент, поддержка коммуникации внутри мемориального сообщества и другие аспекты социального маркетинга.
Дизайн сайтов инициативных виртуальных музеев затопленных территорий выстроен вокруг экспонатов, собранных «в розницу». Таким образом происходит валоризация персональной памяти, ее трансформация в универсальное свидетельство. Информация, представленная в виртуальных музеях активистских проектов, формирует альтернативную память, связана с проработкой травматического опыта, формированием новых паттернов воспоминаний.
Виртуальные музеи затопленных территорий, формирующиеся на базе историко-культурного активизма «снизу», монологичны по проблематике. Они поддерживают контрпамять, конфликтующую с большими нарративами корпоративных музеев гидроэнергетики, политехнических музеев, государственных и региональных исторических музеев.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Пермского края в рамках научного проекта № 20-49-590004 «Добровольные общества и низовые историко-культурные инициативы: трансформации позднесоветских социальных институтов и форм активности во второй половине 1980-х – 1990-е годы (региональный аспект)».
Список литературы Виртуальные музеи «советских Атлантид»
- Avakian, A. Ecological Problems of River Systems Regulated by Reservoirs / A. Avakian // Res-toration of Degraded Rivers: Challenges, Issues and Experiences ; D. P. Loucks (eds). Vol. 39. – Springer, Dordrecht, 1998.
- Palha, A. The construction of the Sobradinho Dam and the relocation of the residents of Velha Sen-to-Sé to Nova Sento-Sé / A. Palha, J. Marques dos Santos // Bahia International Journal of Advanced Engineering Research and Science (IJAERS). – 2019. – Vol. 6, № 8. – Р. 249–256.
- Heming, L. Reservoir resettlement in China: past experience and the Three Gorges Dam / L. Hem-ing, P. Waley, P. Rees // Geographical Journal. – 2001. – Vol. 167, № 3. – Р. 195–212.
- Korytny, L. M. Geographical analysis of river floods and their causes in southern East Sibe-ria / L. M. Korytny, N. V. Kichigina // Hydrological Sciences Journal. – 2006. – Vol. 51, № 3. – Р. 450–464.
- Dallman, S. Political ecology of emotion and sacred space: The Winnemem Wintu struggles with California water policy / S. Dallman, M. Ngo, P. Laris, D. Thien // Emotion, Space and Society. – 2013. – Vol. 6, № 2. – Р. 33–43.
- Griffiths, H. M. Water under the bridge? Na-ture, memory and hydropolitics / H. M. Griffiths // Cul-tural Geographies. – 2014. – Vol. 21, № 3. – Р. 449–474.
- Krauze, C. Making a reservoir: Heterogene-ous engineering on the Kemi River in Finnish Lap-land / C. Krauze // Geoforum. – 2015. – Vol. 66, № 11. – Р. 115–125.
- Isaacman, A. Displaced People, Displaced Energy, and Displaced Memories: The Case of Cahora Bassa, 1970–2004 / A. Isaacman // The International Journal of African Historical Studies. – 2005. – Vol. 38, № 2. – Р. 201–238.
- Янковская, Г. А. Негативные последствия советских гидроэнергетических проектов: форматы и практики мемориализации / Г. А. Янковская // Сибирские исторические исследования. – 2021. – № 3. – С. 119–137.
- Koval-Fuchylo, I. Protesting Retrospectively: Oral Memories and Social Practices of Migrants from the Areas of Artificial Water Reservoirs in Soviet Ukraine / I. Koval-Fuchylo // Folklorica. – 2021. – Vol. XXV. – Р. 21–35.
- Roberts, F. A Controversial Dam in Stalinist Central Asia: Rivalry and «Fraternal Cooperation» on the Syr Darya / F. Roberts // Ab Imperio. – 2018. – № 2. – Р. 117–143.
- Бурдин, Е. А. Волжский каскад ГЭС. Триумф и трагедия России / Е. А. Бурдин. – М.: РОССПЭН. – 2011.
- Schweibenz, W. The virtual museum: an overview of its origins, concepts, and terminology / W. Schweibenz // The Museum Review. – 2019. – Vol. 4, № 1.
- Поврозник, Н. Г. Виртуальный музей: сохранение и репрезентация историко-культурного наследия / Н. Г. Поврозник // Вестник Пермского университета. Серия: История. – 2015. – № 4. – С. 213–222.
- Туристический сайт о ГЭС на реке Амур. – URL: https://visitamur.ru/en/article/hydropower-plants (дата обращения: 18.03.2023).
- Kraftmuseet. Norwegian museum of hydro-power and industry. – URL: https://www.erih.net/i-want-to-go-there/site/kraftmuseet-norwegian-museum- of-hydropower-and-industry (дата обращения: 10.01. 2023).
- Англоязычная страница туристического сайта о музее гидроэнергетики в Угличе. – URL: https://tourism.restexpert.com/russia/place/hydropower-engineering-museum/ (дата обращения: 14.01.2023).
- Сайт учебно-производственного информационного центра «Музей гидроэнергетики в Угличе. – URL: http://www.hydromuseum.ru/about-our-museum (дата обращения: 16.01.2023).
- Исследовательский и туристический проект «Затопленные святыни Мологского края». – URL: http://www.breytovo.ru/staticpage.aspx?id=16 (дата обращения: 18.12.2022).
- Ablazheya, A. M. Identity, Community and Belonging (on the Example of Kezhemsky & Even-kiysky Municipal Districts of Krasnoyarsk Krai) / A. M. Ablazheya, R. C. Craig // Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences. – 2018. – № 11. – Р. 526–533.
- Сайт Красноярской региональной общественной организации по сохранению культуры русских старожилов Сибири «Кежемское землячество». – URL: https://kezhemskoe-zemlyachestvo.ru/ (дата обращения: 16.02.2023).
- Borodulina, A. Undrowned Story: The Landscape on the Volgo–Baltic Waterway as the Volga Hydropower Cascade Submersions Memorial / A. Borodulina // European Review. – 2022. – Vol. 30, № 4. – Р. 519–531.
- Сайт виртуального музея «Музей незатопленных историй Белого озера». – URL: http://museum. pronasledie.ru/ (дата обращения: 14.03.2023).
- Раздел «Коллекции» виртуального музея незатопленных историй Белого озера. – URL: http://museum.pronasledie.ru/collections (дата обращения: 22.02.2023).
- Клюйкова, Е. А. От основания до затопления. Устная история Майкорского завода / Е. А. Клюйкова, С. Ю. Королева, М. А. Брюханова // Живая старина. – 2022. – № 4 (116). – С. 22–28.
- Зубанова, Л. Б. Цифровая память в пространстве мемориальной культуры: образы прошлого в медиа-технологиях будущего / Л. Б. Зубанова // Челябинский гуманитарий. – 2020. – № 3. – C. 15–22.