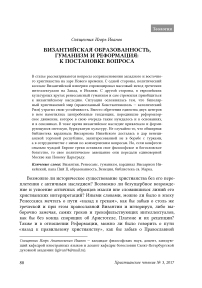Византийская образованность, гуманизм и реформация: к постановке вопроса
Автор: Иванов Игорь Анатольевич
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Теология
Статья в выпуске: 3 (74), 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются вопросы соприкосновения западного и восточно- го христианства на заре Нового времени. С одной стороны, политический коллапс Византийской империи спровоцировал массовый исход греческих интеллектуалов на Запад, в Италию. С другой стороны, в европейских культурных кругах ренессансный гуманизм и сам стремился приобщиться к византийскому наследию. Ситуация осложнялась тем, что биполяр- ный христианский мир (православный Константинополь - католический Рим) утратил свою устойчивость. Вместо обретения единства двух центров в нем наметились центробежные тенденции, породившие реформатор- ское движение, которое в свою очередь также нуждалось и в основаниях, и в союзниках. В тоже время византийское наследие привлекало и форми- рующуюся светскую, буржуазную культуру. Не случайно то, что обширная библиотека кардинала Виссариона Никейского досталась в дар венеци- анской торговой республике, заинтересованной не в борьбе с турками, а в сотрудничестве с ними по коммерческим вопросам. Но, если конфесси- онально чуждой Европе греки оставили свое философское и богословское богатство, то свое политическое завещание они передали единоверной Москве как Новому Царьграду.
Византия, ренессанс, гуманизм, кардинал виссарион ни- кейский, папа пий ii, образованность, венеция, библиотека св. марка
Короткий адрес: https://sciup.org/140190315
IDR: 140190315
Текст научной статьи Византийская образованность, гуманизм и реформация: к постановке вопроса
Церкви и игнорируя либо избирательно подходя к восточно-христианскому богословскому наследию и церковному опыту?
Неужели на заре Нового времени, принимая богатства византийской культуры и православной веры, западные интеллектуалы и церковные деятели (будь то католические гуманисты или протестантские реформаторы), оказались в разной степени равнодушны к самим «носителям» этих традиций, к «православному народу» как таковому, к духу греко-православной культуры и цивилизации?1
Своего рода ориентиром в оценке этой культурной ситуации может стать подход Ганса Дитера Беца, отмечающего, что античность и христианство на протяжении столетий не столько противостояли друг другу, как некие мировоззренческие монолиты, сколько находились в динамичном взаимодействии друг с другом2.
При этом желательно учитывать, что культурный континуитет не прерывался, ведь, несмотря на трагические события для византийской цивилизации, вторая половина XV века показала, что даже в этих условиях греческая мысль (как церковная, так и светская) переживала один из активнейших и значимых периодов своего пути3.
Казалось бы, в огне и разрухе турецкого завоевания были уничтожены многие сокровища античной и христианской традиции. Но и то, что уцелело, до сих пор впечатляет своим разнообразием. И во многом эти сокровища обогатили культурную жизнь западного христианства, сообщив ему некий новый импульс на многие столетия вперед. Византия, умирая, как бы засеменила трудами своих выходцев культурные поля Европы и прочего мира. По наблюдению византолога Роберта Нельсона, культурное наследие Византии в виде тысяч манускриптов хранится в европейских библиотеках, в то время как в самом Константинополе едва найдется несколько десятков древних манускриптов4. С одной стороны, в ходе османского завоевания византийских территорий так или иначе уничтожались памятники культуры, в том числе и библиотеки. Нельсон приводит данные гуманиста Лауро Кверини о том, что в результате захвата турецкими войсками византийской столицы было утрачено 120 000 греческих рукописей5. С другой стороны, многое удалось спасти самим греческим эмигрантам и вывезти за пределы оккупированной родины. Известный своих переходом в католичество, греческих интеллектуал и богослов, кардинал Виссарион Никейский, будучи при этом горячим патриотом, писал так по поводу своего намерения собрать максимальное количество уцелевших греческих рукописей: «Я испытываю великое желание собрать все эти труды не столько для себя, сколько для блага греческого народа — тех, кто выжил ныне, и для будущих поколений»6.
Лютеранский пастор и историк богословия, профессор Ярослав Пеликан, принявший православную веру на закате своей жизни, так говорит об этом парадоксальном времени, ренессансной эпохе: «Изложение вероучительных различий между Востоком и Западом тоже достигло небывалого доселе расцвета. Хотя проблемы и аргументы, в основном, оставались теми же, углубление познаний и более тонкий подход к проблематике вывели полемику между западными и восточными богословами на новый этап»7.
И далее Я. Пеликан продолжает, заостряя свою идею: «Но даже эта катастрофа способствовала расцвету византийского православия , начавшемуся после падения Константинополя. Среди прочего расцвет характеризовался систематическим изложением вероучения, в котором вероучительные положения, свойственные восточным пределам христианского мира, были сведены к исчерпывающему вероисповеданию. Обычно такие исповедания возникали в полемически настроенном протестантском богословии, а что касается восточных, появившихся в XVII веке, то своим рождением они хотя бы отчасти обязаны протестантской Реформации. В то же время они представляли собой естественный результат самой византийской вероучительной истории. С падением Византийской империи исчезли и многие установления, идеи и обычаи, которые более тысячи лет отождествлялись с православием Востока. Тем не менее в истории православного учения куда сильнее впечатляет не разрыв между двумя историческими периодами, знаменовавшийся 1453-м годом, а их преемство»8.
В этой связи показателен один из аспектов образовательной деятельности кардинала Виссариона Никейского. Он не только собирал переводы латинских богословских текстов на греческий язык и наоборот, переводы греческих сочинений на латынь, но и сам переводил многие значимые труды, в равной степени в совершенстве владея обоими языками. Это взаимообогащение двух культур ярко выражено в составе собранной им библиотеки. Уделим этому несколько строк.
Известно, что 31 мая 1468 года кардинал Виссарион подписал акт о передаче своей коллекции книг в дар Сенату Венеции. Так было положено основание фондам библиотеки Святого Марка (Bibliotheca Marciana). В греческой части его книжного собрания было 482 единицы хранения, а в латинской — 264. Всего — 7469.
Приведем тематический состав этой коллекции Виссариона Никейского:
а) греческая серия
1–36: Библия и комментарии к ней;
37–189: творения святых отцов и богословские труды. Среди них — 52-71: жития святых; 96-103: сочинения св. Григория Назиан-зина; 104–107: сочинения св. Кирилла Александрийского; 108 –114: сочинения св. Иоанна Златоуста; 152–163: сочинения св. Василия Великого;
190–201: Деяния Св. Соборов и сочинения по каноническому праву;
202–219: книги по медицине;
220–229: книги по гражданскому праву;
230–272: сочинения по математике, астрономии, музыке и пр.;
273–314: труды по ораторскому искусству и по литературе;
315–358: исторические сочинения;
359–409: Аристотель и его комментаторы;
410–441: Платон и его комментаторы;
442–452: Гомер и его комментаторы;
452–468: прочие поэты;
469–482: труды по грамматике и лексикографии.
в) латинская серия
1–24: Библия и комментарии к ней;
25–56: творения святых отцов и богословские труды. Среди них — 27–29: сочинения св. Григория Великого; 30–36: сочинения св. Августина Блаженного; 38–41: сочинения Николая Лиринского;
57–77: труды по каноническому и гражданскому праву; Деяния Св. Соборов;
78–82: сочинения по церковной истории; .
83–132. творения святых отцов и богословские труды. Среди них — 90–106: сочинения Фомы Аквинского; 107–111: сочинения Бонавентуры. 133–139: книги по медицине и пр.;
140–196: философские труды: Аристотель и его комментаторы; а также сочинения Аверроэса, Фомы Аквинского, Альберта Великого, Боэция и др.;
197–206: сочинения по математике, астрономии, музыке и пр.;
207–224: поэтические и исторические сочинения;
225–236: труды по ораторскому искусству; сочинения Цицерона;
237–264: разные сочинения .
Даже при беглом взгляде на этот список видно, что аристотелевская традиция превалирует над платоновской10, и это при том, что Виссариона трудно упрекнуть в предпочтениях аристотелизму, поскольку, даже перейдя в схоластическо-аристотелевское томисткое католичество, он всегда оставался поклонником платоновской традиции, будучи преданным учеником неоплатоника Георгия Гемиста Плифона, которому он посвятил такое двустишие: «Телесными [очами] ты объемлешь землю, а душевными — звезды, сохраняя досточтимый храм всеобъемлющей мудрости»11.
Впрочем, о византийской аристотелевской схоластике можно и нужно говорить отдельно, как о весьма специфическом явлении в истории богословия и философии. Тем не менее, факт остается фактом: среди византийских рукописей сохранилось около 260 копий диалогов Платона и примерно 1000 копий текстов Аристотеля12.
Благосклонность византийцев к Аристотелю С. С. Аверинцев объясняет так: «Исторический опыт Византии показывает, что в принципе едва ли существует какая-то несовместимость между православием и наследием Аристотеля. Скорее сложности были с Платоном, поскольку Платон вместе с философией как таковой предлагал свою мистику, отличную от христианской, свои символы, свою мифологию. Аристотелевская техника мысли более нейтральна по отношению к религии, чем платоновский экстаз. Такой кодификатор православной нормы в богословии, как Иоанн Дамаскин (VII — VIII вв.), предпослал своему главному теологическому труду Источник знания логико-философское введение, основанное на Аристотеле и его неоплатонических и христианских интерпретаторах. Не раз возникала ситуация, когда защитник православия выступал как аристотелик против еретического платоника: например, Николай Мефонский в середине XII века призывал себе на помощь аристотелевскую критику теории идей против гетеродоксального учения Сотириха Пантевгена; на самом исходе исторического бытия Византии, уже в XV веке, последний враг византийского православия, загадочный неопаганист Георгий Гемист Плифон, был ярым платоником, а его оппонент, первый патриарх Константинополя после пленения последнего турками, по имени Геннадий Схоларий — убежденным аристотеликом. Что до виднейшего православного мистика XIV века Григория Паламы, то он, вообще говоря, выступал против допущения какой бы то ни было языческой философии в зону теологической работы; и все же недаром он выступал почти подростком при дворе с рефератом по аристотелевской логике, — та пара терминов усия и энергейя, при посредстве которых он решает проблему соотношения между трансцендентностью и имманентностью божества и обосновывает столь характерную для православия доктрину исихазма, заимствована у Аристотеля13.
Можно предположить, что Аристотель для византийских мыслителей был прежде всего учителем техники мышления, ведь не секрет, что искушенные в диспутах византийцы постоянно находились в динамичном преодолении интеллектуальных контроверз, одними мыслителями выдвигаемых, другими опровергаемых, а спорить на интеллектуальном уровне без внятного логического и филологического аппарата было весьма затруднительно.
Как отмечает Линос Бенакис, «философия в Византии не прекращала трансляции античных знаний о человеке и мире и была часто независимой от богословской мысли, как на уровне теоретической, так и на уровне практической философии, иными словами она никогда не была сугубо служанкой богословия ( ancilla theologiae )»14.
И то, что такая модель свободных взаимоотношений философского и богословского дискурсов оказалась перенесенной на Запад в эпоху Ренессанса, заслуга именно греческих интеллектуалов, оказавшихся в эмиграции волею судеб. Конечно, этот подход знал и свои перекосы, при которых позиционировалась приоритетность (а, значит, и большая авторитетность) тех или иных авторов, тех или иных концепций, вплоть до «неопаганизма», «радикального платонизма» или же «неосхоластики». Трудно сказать, где проходил для некоторых греческих эмигрантов-интеллектуалов рубеж между искренней верой и нормативным христианством, философской убежденностью и интеллектуальной игрой, патриотическим настроем и космополитическим увлечением, ностальгией по эллинизму и творческим выстраиванием православного мировоззрения в контексте вызовов времени. Каждый из них выбирал свой вариант ответов. И даже противоречивый в оценках потомков кардинал Виссарион Никейский, будучи как бы «своим среди чужих и чужим среди своих», сумел своими деяниями послужить на благо всех, с кем соприкасался в своей жизни: и греческим интеллектуалам, и итальянским гуманистам, и римской курии, и греческой диаспоре в изгнании, и венецианской республике, и даже далекой Руси, устроив союз наследницы византийской империи Софии Палеолог и московского государя Ивана III15.
Вместе с тем, приходится признать, что попытки и кардинала Виссариона, и папы Пия II, и прочих сторонников идеи объединить европейское христианство в борьбе против турок не нашли отклика среди европейских государств, несмотря на то, что последний титулярный наследник византийского престола Андрей Палеолог поочередно продал свои права на византийский трон французской (1494) и испанской короне (1502). В германских же землях вообще назревал процесс отмежевания от той силы, которая еще могла сплотить четыре великие европейские нации — в 1517 году он выразится в публикации 95 тезисов Мартина Лютера и последующем нарастании реформаторского движения.
Впрочем, то, что реформаторы не собирались оставаться в идеологической и идейной самоизоляции говорит тот факт, что они стали активно искать себе союзников на Востоке. Вот, что пишет по этому поводу Я. Пеликан: «Общее противостояние всему, в чем протестантские реформаторы усматривали папские притязания, заставило их в целях пропаганды и полемики обратиться к восточному христианству. На Лейпцигском диспуте 1519-го года Мартин Лютер, вынужденный отстаивать свою точку зрения, согласно которой авторитет папы не является мерилом христианского вероучения и жизни, привел в качестве примера „греческих христиан минувшего тысячелетия... которые не были под властью римского первосвященника“. На следующий год он заявил, что „русские, белорусы, греки, богемцы и многие другие великие земли в этом мире... веруют, как мы, крестят, как мы, проповедуют, как мы и живут, как мы“. В деятельности самого Лютера признание такого родства не шло дальше нескольких переговоров с богемскими гуситами, которые, не входя в восточный христианский мир, отпали от Рима лишь веком раньше. То, что у Лютера было просто полемической интуицией, у его товарища Филиппа Меланхтона и его учеников стало более основательной попыткой экуменического сближения. Самым важным шагом в этой области явился перевод на греческий язык Аугсбургского Исповедания, которое представляло собой вероучительную хартию лютеранской реформации. [...] Заинтересовавшись восточным христианством, лютеране были поражены тем, что „во время турецкой тирании“ сохранились „не только вероучение и обряды христианской религии“, но и структура епископального правления и порядка...»16
В наше время, вполне очевидно, что этот диалог, раз начавшись, продолжается и до сих пор, тем или иным образом на своем историческом протяжении вовлекая разных представителей реформаторских конфессий в орбиту византийского культурного и религиозного мира, тем самым создавая для них возможность приобщения как православному наследию в целом, так и русской духовности в частности.
В заключение можно сказать, что с падением Византии в середине XV века, для Европы начался долгий и непростой путь возвращения к православным отцам через непрестанное вдумчивое и плодотворное освоение византийского наследия в разных его проявлениях: вероучительном, культурном, политическом и социальном. Все эти аспекты византийской цивилизации со всё большим вниманием изучаются в современных национальных и международных научных центрах, о чем свидетельствуют многочисленные исследования на разных иностранных языках.