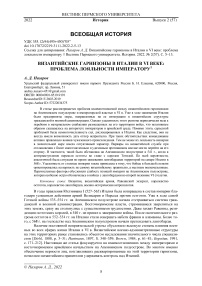Византийские гарнизоны в Италии в VI веке: проблема лояльности императору
Автор: Назаров А.Д.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Всеобщая история
Статья в выпуске: 2 (57), 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается проблема взаимоотношений между византийскими гарнизонами на Апеннинском полуострове и императорской властью в VI в. Уже в ходе завоевания Италии были предприняты меры, направленные на ее интеграцию в византийские структуры гражданской и военной администрации. Однако удаленность этого региона периодически вела к перебоям в материальном снабжении размещенных на его территории войск, что негативным образом сказывалось на авторитете императоров в армейской среде. Помимо этого, серьезной проблемой была немногочисленность сил, дислоцированных в Италии. Как следствие, они не всегда имели возможность дать отпор неприятелю. При таких обстоятельствах командование активно привлекало воинов чужеземного происхождения. Тем не менее их лояльность империи в значительной мере имела ситуативный характер. Варвары на византийской службе при столкновении с более многочисленным и удачливым противником вполне могли перейти на его сторону. В частности, такой была обстановка на Апеннинском полуострове в 541 г., когда в контрнаступление перешли остготы во главе с королем Тотилой. По всей вероятности, аналогичной была ситуация во время завоевания лангобардами территорий на севере Италии в 568 г. Удаленность от столицы империи также приводила к тому, что бойцы в большей степени ориентировались на верность не самому византийскому правителю, а местным военачальникам. Перечисленные факторы обусловили слабость позиций империи на Апеннинском полуострове, которая особенно остро обозначилась в войнах с лангобардами во второй половине VI столетия.
Византия, византийская армия, равеннский экзархат, королевство остготов, королевство лангобардов, военно-историческая антропология
Короткий адрес: https://sciup.org/147246425
IDR: 147246425 | УДК: 355.12:94(495+450)"05" | DOI: 10.17072/2219-3111-2022-2-5-13
Текст научной статьи Византийские гарнизоны в Италии в VI веке: проблема лояльности императору
В годы правления Юстиниана I (527–565) Италия была возвращена в состав империи благодаря успешным действиям армий Велисария и Нарсеса против остготов. Уже в ходе самой Готской войны 535–554 гг. на Апеннинском полуострове начала отстраиваться система гражданской и военной администрации. Восточноримские власти, стремившиеся закрепиться на этих землях, сразу же столкнулись с существенными трудностями. Даже захват Равенны, резиденции остготских королей, в 540 г. не привел к завершению войны. После окончательного разгрома остготов в 552–554 гг. на Италию стали совершать набеги франки и аламанны. Более того, с 568 г. на господство над Апеннинским полуостровом начали претендовать лангобарды.
Наличие постоянной неприятельской угрозы обусловило высокую степень влияния военных во всех сферах жизни Италии в VI в. Византийские военно-административные структуры на этих территориях ранее становились объектом исследования значительного числа специалистов [ Diehl , 1888, p. 3–31; Hartmann , 1897, S. 348–359; Brown , 1984, p. 61–81; Бородин , 1991, с. 171–212]. Настоящая же статья фокусируется на взаимоотношениях между императорами и восточноримским армейским начальством на Апеннинском полуострове. Во многом именно обеспечение верности лиц, возглавлявших расквартированные на этой территории гарнизоны, позволяло византийским правителям удерживать контроль над Италией.
Руководство восточноримскими войсками на Апеннинском полуострове первоначально осуществлял стратег-автократор, а с конца 570-х – начала 580-х гг. – экзарх Равенны. Эти лица обладали широчайшими полномочиями, которые, по сути, ставили их выше префекта претория Италии, то есть высшего гражданского должностного лица в этом регионе. Следом в армейской иерархии располагались дуксы ( duces ) и военные магистры ( magistri militum , στρατηλάτοι) [ Durliat , 1979, p. 317]. Первоначально основной задачей последних было командование крупными соединениями в экспедиционной армии. Однако в Италии, Африке, Испании такого рода отряды превращались в гарнизонные войска, а их командующие – в начальников военнотерриториальных единиц [ Hartmann , 1897, S. 352; Brown , 1984, p. 53]. Впрочем, Ф. Борри полагает, что на первых порах только дуксы стояли во главе таких областей. Военные магистры же выполняли свои обязанности без привязки к какой-то конкретной территории. Слияние полномочий duces и magistri militum происходило, по его мнению, уже в VII–VIII вв. [ Borri , 2005, p. 5–6].
Назначение на эти посты, равно как и на любые другие крупные командные должности, чаще всего проводилось самим императором. Тем не менее только часть кандидатур на такого рода посты отбиралась и утверждалась непосредственно византийскими правителями. Многие военные магистры и дуксы назначались стратегами-автократорами, а позднее – экзархами Равенны [Там же, p. 10–11]. Из-за удаленности Италии от Константинополя согласование подобных назначений с императором могло занять значительное время, тогда как военно-политическая обстановка на Апеннинском полуострове зачастую требовала оперативных решений.
Отдельного внимания заслуживает рассмотрение вопроса, из каких бойцов могли отбираться будущие дуксы и военные магистры. В частности, проявившие себя солдаты нередко пополняли отряды дорифоров (δορυφόροι) и гипаспистов (ὑπασπισταί) при стратегах-автократорах и других восточноримских военачальниках. Среди их числа были не только уроженцы империи, но и выходцы из сопредельных политических образований. В дальнейшем им, как доверенным лицам, могло поручаться начальство над отдельными армейскими частями в ранге трибунов. Наивысшей ступенью карьер этих воинов были посты военных магистров или дуксов. Таким образом, служебное продвижение бойцов зависело от их боевых заслуг и способности произвести впечатление на высокопоставленных командиров [ Schmitt , 1994, S. 157].
Это, в свою очередь, означает, что византийские военачальники на Апеннинском полуострове в значительной мере опирались на лично преданных им воинов. Что примечательно, когда в Италии в 538–539 гг., помимо Велисария, на правах главнокомандующего находился Нарсес; между двумя военачальниками, не желавшими подчиняться друг другу, начался конфликт. Как следствие, оба полководца стремились заручиться поддержкой своих сторонников среди командного состава, а также лидеров варварских союзнических контингентов [ Kaegi , 1981, p. 52–53; Parnell , 2017, p. 112–121]. После отзыва Нарсеса Юстинианом I конфликт был исчерпан далеко не сразу – Велисарию долгое время отказывались повиноваться герульские союзники (σύμμαχοι), приглашенные в византийскую армию Нарсесом (Proc. BG. II. 22. 5).
Кроме того, существовали трудности с материальным снабжением восточноримских гарнизонов на Апеннинском полуострове, усугублявшиеся злоупотреблениями местных чиновников и командиров (Proc. BG. III. 6. 6–7; 11. 14; 12. 7). Это негативным образом сказывалось на лояльности бойцов императорской власти. По словам Прокопия Кесарийского, в 540-х гг. из-за скудных денежных выплат воины стали пренебрегать своими обязанностями (Proc. BG. III. 1. 33). Более того, этот историограф упомянул несколько случаев подкупа византийских солдат противником (Proc. BG. II. 3–5; III. 12. 19; 36. 7). Перебежчики, равно как и военнопленные, охотно принимались в остготское войско королем Тотилой (541–552) (Proc. BG. III. 5. 19; 36. 25). Известен пример Гундульфа, который около 549 г. переметнулся в стан неприятеля, где пользовался расположением Тотилы. Он даже отказался сдаваться Нарсесу после гибели последнего остготского короля Тейи в битве при Молочной горе в 552 г. и удалился на север Италии (Proc. BG. III. 35. 23; IV. 23. 1; 35. 37).
Следует добавить, что дезорганизация политической системы Остготского королевства, а также отсутствие сильных византийских гарнизонов на Апеннинском полуострове после отплытия Велисария с большей частью армии в 540 г. привели к тому, что Италия погрузилась в состояние перманентной войны, сопровождавшейся разрушениями объектов хозяйственной инфраструктуры и гибелью множества людей. Весьма примечательно, что изъятие прибавочно- го продукта у романского населения при остготском короле Теодорихе Великом (493–526) шло через систему упорядоченного налогообложения, доставшуюся в наследство от Римской империи. Однако в ходе Готской войны варвары осуществляли его путем насильственного захвата имущества мирных жителей [Berndt, 2011, S. 145].
В 551 г., когда Византия готовилась к решающей схватке за господство над Италией, многие перебежчики вернулись в императорскую армию (Proc. BG. III. 39. 22). Они примкнули к экспедиционным силам под началом Нарсеса, которому удалось окончательно сломить сопротивление остготов. Такая решимость свидетельствует о том, что эти воины продолжали отождествлять свои политические интересы с интересами империи. Конечно, не все разделяли подобные настроения. Прокопий Кесарийский упоминал, что во время преследования разбитого в 552 г. при Тагине остготского воинства дезертиры, оставшиеся служить Тотиле, убивались безо всякой пощады (Proc. BG. IV. 32. 20). Как отметил П. Эмори, в подобной ситуации важнейшую роль играла «принадлежность к правильному сообществу в правильное время» [ Amory , 1997, p. 150]. Переход на сторону более сильного противника значительно повышал шансы воина спасти собственную жизнь и, кроме того, позволял рассчитывать на материальное обогащение.
В такой обстановке особенную значимость имела личность того или иного военного лидера: византийского стратега-автократора, остготского короля или какого-то иного варварского предводителя. Победы на поле брани создавали вокруг подобного лица ореол удачливого полководца, боевые успехи же давали воинам возможность рассчитывать на богатую добычу и щедрые дары от такого лидера. В этой связи необходимо обратить внимание на свидетельство Прокопия Кесарийского о том, что остготы в 540 г. предложили корону Велисарию (Proc. BG. II. 30. 23–28). Таким способом они могли не только сохранить независимость от власти Константинополя [ Amory , 1997, p. 171]. Остготы также рассчитывали, что харизма выдающегося военачальника вернет им удачу в битвах. Велисарий отказался от этого предложения, что можно объяснить не только его сомнительной выгодой, но и преданностью полководца лично Юстиниану I, которому он был обязан своим возвышением [The Prosopography…, 1992, vol. 3A, p. 182].
Византийцы так же, как и их противники, принимали в вооруженные силы бойцов, ранее сражавшихся на стороне врага. Остготы, поступавшие на службу императору, получали возможность выслужиться и достичь командных должностей. Одним из первых таких высот сумел добиться Сисифрид, возглавлявший гарнизон Ассисия (совр. Ассизи) в начале 540-х гг. (Proc. BG. III. 12. 12, 17) [The Prosopography…, 1992, vol. 3B, p. 1159–1160]. Как отметил В. Поль, Готская война в описании Прокопия Кесарийского предстает противостоянием отдельных групп воинов, которые сплачивались вокруг того или иного предводителя. Причем это касается не только остготских королей, но и Велисария, и Нарсеса. Вслед за окончанием Готской войны подобные объединения могли становиться на сторону врагов империи: мятежного герульского предводителя Синдуальда, аламаннских герцогов Буккелина и Левтариса, короля лангобардов Альбоина и др. [ Pohl , 1995].
Надо отметить, что Прокопий Кесарийский избегал морализаторских суждений, описывая случаи перехода восточноримских бойцов на сторону врага. Можно, однако, увидеть проявления симпатии со стороны византийских авторов к перебежчикам, становившимся под знамена императорской армии. Упомянутого ранее Сисифрида Прокопий назвал «весьма благожелательным к римлянам» (εὐνοϊκῶς δὲ λίαν ἔς τε Ῥωμαίους) (Proc. BG. III. 12. 12). Агафий Мири-нейский, в свою очередь, приветствовал решение остгота Алигерна примкнуть к войску Нарсе-са – благодаря такому поступку этот германец смог «римским гражданином стать (Ῥωμαϊκῆς μεταλαχεῖν πολιτείας), опасностей избегая и варварского образа жизни» (Agath. I. 20. 3).
После гибели королевства остготов число варваров, назначенных на командные посты на Апеннинском полуострове, по всей видимости, серьезно возросло. Они влились в ряды италовизантийской аристократии, которая состояла из представителей служилой знати [ Бородин , 1991, c. 182]. Кроме того, она могла пополняться наемниками и перебежчиками, пришедшими из-за Альп, или даже военнопленными. Объясняется такая ситуация нехваткой военных сил, в которых остро нуждались италийские гарнизоны для отражения набегов франков и аламаннов2.
Агафий Миринейский писал, что зимой 553–554 гг. у Ариминия (совр. Римини) к армии Нарсеса присоединился вождь варнов Теудибальд (Agath. I. 21. 1–3). Варны (Οὔαρνοι, Werini) жили между реками Зале и Мульде. Совместно с тюрингами и англами они входили в состав конфедерации племен, которая была разгромлена франками и саксами в 531 г. [Grahn-Hoek, 2009, S. 416]. Отряд Ваккара, отца Теудибальда, по всей видимости, сражался на стороне ала-маннских герцогов Буккелина и Левтариса, вторгшихся в Италию в 553 г. Однако после смерти лидера варнов его сын принял решение перейти под знамена византийской армии на правах σύμμαχος. Агафий упомянул, что Нарсес одарил перебежчиков, стремясь обеспечить их верность.
Состояние источниковой базы не позволяет провести полноценный просопографический анализ командного состава византийских сил, размещенных в Италии в 552–568 гг. Однако представляется необходимым упомянуть известных из источников восточноримских командиров, служивших в этом регионе в указанный период и имевших негреческие и нелатинские имена. При этом можно предположить, что в византийских гарнизонах в Италии в эти годы находилось значительно большее число подобных лиц. В первую очередь следует назвать Али-герна, брата последнего короля остготов Тейи. Он руководил подразделением императорской армии в середине 550-х гг. (Agath. II. 9. 13) [The Prosopography…, 1992, vol. 3A, p. 48].
Возможно, одним из пришедших из-за Альп воинов был Карелл, хозяин нескольких печатей из коллекций Государственного Эрмитажа, Георгиоса Закоса и исследовательского центра Думбартон Окс. Карелл был военным магистром, о чем свидетельствует адресованное ему письмо римского папы Пелагия I, датируемое 559 г. (Pelag. Ep. 65) [The Prosopography…, 1992, vol. 3A, p. 272]. Кроме того, надпись на одном из его моливдовулов гласит: Carello , magistro militum ( Zacos , Vegleri , 1972, p. 566, no. 768). Стратилатом, что является греческим эквивалентом латинского термина magister militum , он именовался на нескольких печатях со следующей надписью: Καρέλλου, stratelatu ( Степанова , 2006, с. 32–33, № 24; Zacos , Vegleri , 1972, p. 566, no. 769; Dumbarton Oaks BZS.1958.106.761; 1958.106.3067). Кроме того, сохранился моливдовул с исключительно латинским текстом: Carellu , stratelatu ( Zacos , Vegleri , 1972, p. 1635, no. 2867).
Судя по легенде другой печати (Καρέλλου, ἰλλουστρίου), Кареллу был пожалован титул vir illustris (Dumbarton Oaks BZS.1955.1.162). В Одессе (совр. Варна), предположительно, в 552 и 575 гг. были похоронены его жена Иоанна и сын Иоанн. На их надгробиях указано, что Карелл был иллюстрием и стратилатом соответственно (SGLIBulg, no. 87, 88). Отдельно нужно упомянуть о печати, на которой не указаны должность либо титул хозяина: Καρέλλου, Carello ( Zacos , Vegleri , 1972, p. 565, no. 765; Dumbarton Oaks BZS.1955.1.4420). На службе в императорской армии Карелл находился, по меньшей мере, с конца 540-х гг. В должности военного магистра он служил в Италии под началом Нарсеса, а позднее перебрался во Фракию. Проследить этническое происхождение этого военачальника не представляется возможным. Можно только утверждать, что его имя имеет кельто-латинскую этимологию [ Holder , 1896, Sp. 787]. Карелл вполне мог быть выходцем из латиноязычных провинций империи. Столь же вероятно, что он переселился в Византию с варварского Запада3.
Павел Диакон писал о Франкионе ( Francio ), который со времен пребывания Нарсеса на Апеннинском полуострове командовал гарнизоном острова Комацина (совр. Комачина) на озере Комо. По словам средневекового историографа, он находился на этом посту в течение 20 лет, но в 588 г. капитулировал перед лангобардами. Тем не менее неприятель предоставил ему возможность удалиться в Равенну (Paul. Diac. Hist. Lang. III. 27). Был ли Франкион франком, утверждать сложно, однако такую возможность исключать нельзя.
Вместе с тем Н. П. Лихачев ввел в научный оборот моливдовул со следующей легендой: Θεοτώκε βωήθη, Σιλιβούδῃ στρατηλάτου. Издатель отметил, что «надпись не совсем грамотная». Поэтому следует предпочесть иное прочтение: Θεοτ<ό>κε βωήθ<ει>, Σιλιβούδῃ στρατηλάτ<ῳ> («Богородица, помоги стратилату Силибуду»). Эту печать Н. П. Лихачев приобрел в Риме, найдена она была, по словам продавцов, в Италии. Исследователь датировал моливдовул VI–VII вв. ( Лихачев , 1991, с. 195, табл. LXXI, № 9). Не вызывает сомнений германская этимология антропонима Σιλιβούδης4. Скорее всего, его обладатель переселился на Апеннинский полуостров из заальпийских территорий.
Опора византийского командования на варварские отряды зачастую была рискованной из-за их ненадежности. Прокопий упоминал, что перед битвой при Тагине в 552 г. Нарсес приказал союзным герулам, лангобардам и другим варварам спешиться и занять место в центре боевого построения. Сделано это было в том числе для того, чтобы избежать их перехода на сторону остготов (Proc. BG. IV. 31. 5). Между тем в «Стратегиконе» Маврикия содержится сле- дующая рекомендация: «Необходимо соплеменников врагов заранее отделять от войска и в другие места отправлять, чтобы не переметнулись при случае они к неприятелю при столкновении» (Maur. Strat. VII A. 15. Cf.: Ibid. VII B. 16). Недоверие к таким бойцам вполне объяснимо, учитывая, что заинтересованы они были главным образом в материальной выгоде.
Состоявшие из чужеземцев отряды неоднократно поднимали мятежи против империи. Павел Диакон писал, что при поддержке франков восстал комит Видин, командовавший готами, однако бунтовщики были разбиты Нарсесом (Paul. Diac. Hist. Lang. II. 2). Произошло это событие в 562 г., местом боевых действий стали Брешия и Верона (Malal. XVIII. 140; Theoph. AM 6055). По всей вероятности, против Византии взбунтовались отряды, состоявшие из воинов остготского происхождения. Видин же таким способом стремился обособиться от империи. При этом неизвестно, претендовали ли восставшие на преемственность с королевством остготов, однако исключать возможность таких притязаний нельзя.
Сразу после смерти Юстиниана I в 565 г. в Италии подняли мятеж герулы, провозгласив королем Синдуальда, но Нарсес вскоре подавил и это выступление (Paul. Diac. Hist. Lang. II. 3) [The Prosopography…, 1992, vol. 3B, p. 1154–1155]. Интересно, что Павел Диакон назвал Синду-альда «королем брентов» ( rex Brentorum ). Не исключено, что речь шла о племени бревнов, обитавшем в Норийских Альпах к югу от перевала Бреннер (Iord. Rom. 241). Эти земли входили в состав дуката с центром в г. Тридент (совр. Тренто) [ Stein , 1949, p. 612]. Вероятно, во главе данной военно-территориальной единицы стоял Синдуальд в ранге дукса или военного магистра. Кончина Юстиниана I означала для этого герула прекращение всяких обязательств перед императорской властью. Это давало ему возможность воспользоваться слабостью византийских позиций на севере Италии для утверждения собственного господства над теми территориями, которые контролировались верными ему отрядами.
Между тем неоднократно упоминавшийся ранее Нарсес в повествовании Павла Диакона предстает как удачливый, справедливый, благочестивый политический деятель, практически независимый от Константинополя. Он был якобы оклеветан перед императором Юстином II и, не желая покидать Италию, призвал в страну лангобардов (Paul. Diac. Hist. Lang. II. 1–5). Конечно, к такой информации средневекового историографа нужно отнестись критически. Павел Диакон, опираясь на сведения Origo gentis Langobardorum , стремился обосновать легитимность перехода власти в Италии к королям лангобардов (ср.: [ Goffart , 1988, p. 388–390; Fabbro , 2020, p. 41–42]). Однако, как и в случае с Велисарием, верность Нарсеса императору сомнению не подлежит.
По предположению Н. Кристи, лангобарды не вторгались в Италию, а действительно были приглашены туда в 568 г. с целью восполнения нехватки военных сил [ Christie , 1995, p. 62–63]. В свою очередь Э. Фаббро пришел к выводу, что отставка Нарсеса, который пользовался огромным авторитетом в армейской среде, привела к коллапсу в системе военного управления. Такая мера спровоцировала возмущение воинских частей на севере Италии, которые уже долгое время были недовольны византийской властью. Как только Альбоин прибыл на Апеннинский полуостров, мятежники присоединились к нему. Это дало лангобардскому предводителю благоприятную возможность не признавать чье-либо верховенство и, более того, установить свою власть во Фриули, Лигурии, Тоскане, Умбрии [ Fabbro , 2020, p. 29–42].
Суждения Н. Кристи и Э. Фаббро представляются логичными с учетом того, что лангобарды пришли в Италию из Паннонии, преодолев Юлиевы Альпы. Для охраны горных путей, которые вели с Балканского полуострова на Апеннинский, было вполне достаточно небольших отрядов. Неслучайно в первые годы Готской войны Византия отправляла в Италию войска исключительно по морю, поскольку попытка пробиться через альпийские перевалы могла привести к тяжелым потерям. Лангобарды же сумели проникнуть в Италию без каких-либо препятствий. Археологические данные свидетельствуют, что оборонительная система claustra Alpium Iuliarum избежала каких-либо разрушений во второй половине VI в. [ Christie , 1995, p. 76].
Впрочем, далеко не все отряды восточноримской армии поспешили примкнуть к пришельцам. Достаточно отметить, что Павия сопротивлялась лангобардам в течение трех лет и пала только в 572 г. (Paul. Diac. Hist. Lang. II. 26). Таким образом, италийская армия раскололась на сторонников и противников императорской власти. К сожалению, сведения источников о мерах византийского командования, предпринятых для противодействия войску короля Аль- боина, весьма скудны. По всей вероятности, слабость и малочисленность восточноримских гарнизонов, сохранивших верность императору, не позволяла остановить продвижение неприятеля, который сумел прочно закрепиться на захваченных землях.
Представляется к тому же возможным, что при таких обстоятельствах многие остготы и другие варвары, находившиеся в императорской армии, предпочли примкнуть к Альбоину и тем самым спасти свои жизни. Практически точно такой же была обстановка на Апеннинском полуострове после перехода Тотилы в контрнаступление в 541 г. Чужеземцы присягали императору, но не идентифицировали себя с Византией и ее интересами. Для многих германцев, служивших в Италии, лояльность империи была лишь ситуативной.
Вместе с тем Менандр Протектор упоминал, что кесарь Тиверий в 577/578 г. отправил 30 кентинариев золота на Апеннинский полуостров для подкупа варварских вождей (Menand. fr. 22). Среди византийской военной знати в Италии конца VI в. засвидетельствовано немалое число лиц лангобардского происхождения [ Brown , 1984, p. 70–75]. В частности, равеннский экзарх Роман сообщал в письме королю Австразии Хильдеберту II, датируемом 590 г., что к восточноримскому войску примкнул Гизульф, герцог Фриули. Вместе с ним в этом источнике упомянут еще один лангобард – Нордульф, который служил в византийской армии и получил титул патрикия (Ep. Austr. 41). Примечательно, что оба этих германца впоследствии вернулись к своим прежним соратникам (Greg. Magn. Ep. II. 45; Paul. Diac. Hist. Lang. IV. 37) [The Proso-pography…, 1992, vol. 3A, p. 537–538, vol. 3B, p. 949–950].
Переменчивый характер лояльности значительного числа отрядов, входивших в состав италийских гарнизонов, был серьезной проблемой для Византии. Многие из воинов, состоявших в таких подразделениях, перешли на сторону империи под давлением неблагоприятных обстоятельств. Выбор в пользу служению императору, а не какому-либо варварскому королю, зачастую объясняется их стремлением извлечь максимальную выгоду из военно-политической ситуации на Апеннинском полуострове, выйти из нее с наименьшими потерями. К тому же эти бойцы зачастую были заинтересованы в демонстрации своей верности не столько императору, сколько командирам, под началом которых они состояли. Именно последние были гарантами их благосостояния и карьерного продвижения.
Экзархи Равенны оказались вынуждены опереться на такие формирования из-за недостатка военных сил. Последнее можно объяснить нежеланием властей ослаблять гарнизоны балканских и восточных провинций из-за угроз, исходивших от авар и персов. Что касается возможности проведения новых наборов в армию, такие действия легли бы непосильным бременем на финансы империи. Более того, существовали проблемы с материальным снабжением вооруженных сил в византийской Италии. Этот фактор делал значительную часть восточноримских подразделений, дислоцированных на Апеннинском полуострове, крайне ненадежными, особенно если им приходилось иметь дело против сильного противника. Византийские главнокомандующие в Италии в VI в., напротив, служили императорам верой и правдой. Однако уже в следующем столетии экзархи Равенны начали предпринимать попытки отделиться от империи.
Список литературы Византийские гарнизоны в Италии в VI веке: проблема лояльности императору
- Бородин О.Р. Византийская Италия в VI-VIII веках. (Равеннский экзархат и Пентаполь). Барнаул: День, 1991. 366 с.
- A Gothic Etymological Dictionary / ed. by W.P. Lehmann. Leiden: Brill, 1986. 732 p.
- A Handbook of Germanic Etymology / ed. by V. Orel. Leiden; Boston: Brill, 2003. 721 p.
- Amory P. People and Identity in Ostrogothic Italy, 489-554. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.547 p.
- Berndt G.M. Beute, Schutzgeld und Subsidien. Formen der Aneignung materieller Güter in gotischen Kriegergruppen // Lohn der Gewalt: Beutepraktiken von der Antike bis zur Neuzeit / hrsg. von H. Carl, H.-J. Bömelburg. Paderborn: F. Schöningh, 2011. S. 121-147.