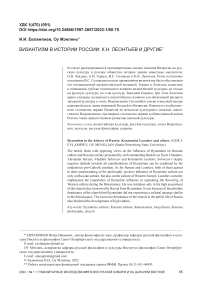Византизм в истории России: К.Н. Леонтьев и другие
Автор: Евлампиев Игорь Иванович, Оу Мэнлянь
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Константин Леонтьев: Цветущая сложность. К 190-летию со дня рождения философа
Статья в выпуске: 1 (59), 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются противоречивые оценки влияния Византии на русскую культуру и русское общество, которое давали известные мыслители: П.Я. Чаадаев, А.И. Герцен, В.С. Соловьев и К.Н. Леонтьев. Резко негативное отношение В.С. Соловьева ко всем проявлениям византизма было обусловлено его тенденциозной прокатолической позицией. Герцен и Леонтьев сходились в понимании глубоко позитивного влияния византийской культуры не только на русскую культуру, но и на культуру Западной Европы; при этом Леонтьев верно указывал на важность византийского влияния для объяснений расцвета западной культуры в эпоху Возрождения. Он ошибся только в высокой оценке церковной идеи, заимствованной Россией из Византии. Именно из-за абсолютного господства церкви Византия не испытала культурного подъема, аналогичного Возрождению; чрезмерное господство церкви в общественной жизни России также препятствовало развитию высокой культуры.
Византийская культура, русская культура, эпоха возрождения, исихазм, русская философия, церковь
Короткий адрес: https://sciup.org/170195080
IDR: 170195080 | УДК: 1(470) | DOI: 10.24866/1997-2857/2022-1/65-75
Текст научной статьи Византизм в истории России: К.Н. Леонтьев и другие
Когда в начале XIX в. происходило формирование самостоятельной традиции русской философии, П.Я. Чаадаев в своем главном произведении высказал однозначно негативную оценку зависимости русской государственности и русской культуры от Византии: «В то время, когда среди борьбы между исполненном силы варварством народов Севера и возвышенной мыслью религии воздвигалось здание современной цивилизации, что делали мы? По воле роковой судьбы мы обратились за нравственным учением, которое должно было нас воспитать, к растленной Византии, к предмету глубокого презрения этих народов» [17, c. 331].
Эта оценка выглядит естественной в контексте прокатолических убеждений Чаадаева, присутствующих в его «Философических письмах». Однако в последующем творчестве именно в этом пункте взгляды Чаадаева радикально изменились. Уже в 1843 г. в наброске статьи, являющейся откликом на статью А.С. Хомякова (с которым Чаадаев был в дружеских отношениях) «О сельских условиях», он характеризует византийский фактор в истории России прямо противоположным образом: «В то время когда по всему Западу носилась проповедь церкви честолюбивой, когда там умы вооружались друг против друга за свои страстные убеждения и народы шумно подвизались на неверных, тогда мы, в тихом созерцании, питались одной святой молитвой; не спорили о сущности учения Христова, не помышляли оружием обращать во мраке бродящих народов; на отлученных братьев глядели с любовью и в скромном сознании своей немощи принимали своих верховных пастырей из рук царей просвещенной Византии. <...> Чудно, непостижимо. Полный народ, одним христианством созданный. Невольно спросишь себя, чем заслужили мы такое чрезвычайное преимущество над всеми прочими народами мира? <...> Россия уже тогда достигла высокой степени просвещения, несмотря на свои удельные раздоры и на беспрестанную борьбу с соседственными дикими племенами. И немудрено. Из цветущей Византии осенило нас святое православие; а там еще в то время не отжила свой век мудрость эллинская, не отцвели художества, не догорел еще светильник древней науки» [16, c. 541–543].
Удивительная полярность двух оценок византийского влияния Чаадаевым ставит в тупик исследователей [16, c. 746], однако на деле она является достаточно адекватным отражением амбивалентности самого этого влияния: глубоко положительного в одних аспектах и радикально отрицательного в других. Разделить их не так-то просто, но без этого невозможно понять все перипетии споров вокруг этой проблемы на протяжении более чем столетия нашей культурной и интеллектуальной истории.
Ранние славянофилы относились к Византии и ее влиянию на Россию в древнейший период ее развития однозначно положительно, считая, что она была гораздо более развитой в культурном смысле, чем Западная Европа. Вот как об этом писал И.В. Киреевский: «...Все современное просвещение тогда сосредоточивалось в Византии. Древние писатели христианские и языческие, и особенно писатели-философы, были коротко знакомы образованным грекам, – и очевидные следы их основательного изучения видны в большей части духовных творений, до самой половины ХV века; между тем, как Запад, необразованный и, можно даже сказать, невежественный сравнительно с Византией, до самого почти XIV века обращался в своем мышлении почти единственно в кругу одних латинских писателей, за исключением только немногих греческих» [9, c. 271]. Эта точка зрения вполне понятна и в целом верна, но она не дает подлинной глубины понимания византийского влияния, в силу очевидной некритичной идеализации византийского православия славянофилами. Важным дополнением к ней является оценка византийского влияния, которую дал А.И. Герцен, известный оппонент славянофилов.
Особенно часто о влиянии византизма на русскую общественную жизнь Герцен упоминает в книге «О развитии революционных идей в России» (1851). Излагая раннюю историю России, Герцен признает, что главной задачей молодой нации было создание сильного государства, которое могло бы противостоять более развитым нациям. Он указывает на православие как на фактор, обеспечивший создание такого сильного государства: «Обращение России в православие является одним из тех важных событий, неисчислимые последствия которых, сказываясь в течение веков, порой изменяют лицо всего мира. Не случись этого, нет сомнения, что спустя полстолетие или столетие в Россию проник бы католицизм и превратил бы ее во вторую Кроацию или во вторую Богемию» [2, c. 400].
Но, оценив положительно сам факт принятия православия от Византии, далее Герцен описы- вает влияние византийского элемента в общественной жизни России сугубо отрицательно. Византийская империя и византийская церковь воспринимаются им как одряхлевшие, косные формы, не способные служить развитию молодой и энергичной страны. Использование этих образцов для организации государства и религиозной жизни привело к замедлению развития России и к ее превращению в «безгласное, послушное слепой вере, лишенное света знания государство» [2, c. 404]. В качестве главного негативного фактора Герцен называет антикультурную тенденцию церкви. Православная церковь и в ее византийской, и в русской версии решительно противилась развитию высокой культуры общества.
Здесь уместно вспомнить, что в своей предыдущей книге «С того берега» (1850), изданной на немецком языке всего за год до книги «О развитии революционных идей в России», Герцен вынес суровый приговор современной западной цивилизации именно за то, что она отреклась от свойственного ей на протяжении столетий стремления к созданию высокой культуры и впала в «мещанство», в бездумное поклонение материальным ценностям. Получается, что эта черта – утрата цивилизацией способности творческого созидания культуры – была для Герцена универсальным признаком деградации, кризиса и гибели. Конкретные факторы, приводящие к этому, могут быть очень различными: в современной Герцену Европе это приоритет материальных ценностей, в Византии – господство православной церкви: «Византийская церковь питала отвращение ко всякой светской культуре. <...> Презирая всякую независимую живую мысль, она хотела только смиренной веры» [2, c. 428].
Резкие оценки православной византийской церкви заставляют задуматься над тем, почему же Герцен в начале своей книги все-таки положительно оценил принятие православия Россией. Наиболее естественно это можно объяснить тем, что православная церковь была просто иной по отношению к католической и препятствовала ее влиянию на Россию, в то время как обе они в равной степени представляют собой негативные факторы духовного развития. В принципе, такое объяснение соответствует взглядам Герцена, который, не будучи в полном смысле атеистом (как думают многие) и вполне позитивно оценивая роль первоначального христианства (учения Иисуса Христа) в исто- рии, крайне негативно относился к церковной форме этой религии. Вот как он описывает христианство в книге «С того берега»: «Христианство, религия противоречий, признавало, с одной стороны, бесконечное достоинство лица, как будто для того, чтоб еще торжественнее погубить его перед искуплением, церковью, отцом небесным. Его воззрение проникло в нравы, оно выработалось в целую систему нравственной неволи, в целую искаженную диалектику, чрезвычайно последовательную себе. <...> Христианство, раздвояя человека на какой-то идеал и на какого-то скота, сбило его понятия; не находя выхода из борьбы совести с желаниями, он так привык к лицемерию, часто откровенному, что противуположность слова с делом его не возмущает» [4, с. 355; 357]. Безусловно, здесь речь идет не о самом учении Христа, которое провозгласило абсолютную свободу человека, а о церковном учении, заменившем свободу рабством.
Тем не менее мы не можем утверждать, что отношение Герцена к византийскому влиянию на Россию было исключительно негативным. Византийскую культуру он упоминал уже в двух своих первых философских трудах, там ее влияние на западную культуру оценивалось по-другому. В работе «Дилетантизм в науке» Герцен называет «византизмом» главную тенденцию средневековой живописи, имея в виду иконописную, символическую манеру изображения. Ее он считает основой всей европейской живописи, обусловившей расцвет итальянской культуры в эпоху Возрождения: «Живопись, поднявшись до высочайшего идеала, стала снова твердой ногой на землю, а не оставила ее. Византийская кисть отреклась от идеала земной человеческой красоты древнего мира. Итальянская живопись, развивая византийскую, в высшем моменте своего развития отреклась от византизма и, по-видимому, возвратилась к тому же античному идеалу красоты; но шаг был совершен огромный; в очах нового идеала светилась иная глубина, иная мысль, нежели в открытых глазах без зрения греческих статуй. Итальянская кисть, возвращая жизнь искусству, придала ему всю глубину духа, развитого словом Божиим» [1, с. 36]. Столь же положительно о влиянии Византии и ее культуры на итальянскую культуру эпохи Возрождения Герцен пишет и в работе «Письма об изучении природы»: «Греки наезжали из Византии и привозили с собою руно, схороненное у них в продолжение десяти веков» [3, с. 235]. По контексту этого высказывания можно понять, что под «руном» здесь подразумевается наследие классического искусства, которое стимулировало развитие итальянского гуманизма.
Эта тема в эпоху Герцена была новой и спорной, но в наши дни появляется все больше исследований, в которых доказывается, что влияние развитой культуры поздней Византии на итальянское Возрождение было очень значительным; возможно, оно было одним из важнейших факторов, которые обусловили появление этой великой эпохи. Современные исследователи признают, что Византия в XIV в. переживала культурный расцвет, очень похожий на тот, который чуть позже будет отмечен в Италии, однако в Византии он не привел к столь значительным результатам из-за гораздо более жесткого контроля церкви над духовной жизнью общества [12]. Причины различия двух «ренессансов» (византийского и итальянского) проявляются при сравнении идейных движений, явившихся основой соответствующих культурных процессов – византийского исихазма и итальянского гуманизма. В то время как исихазм был признан византийской церковью в качестве «легального» богословского движения, поскольку сохранял непреодолимую онтологическую дистанцию между человеком и Богом, итальянский гуманизм, по сути, вышел за рамки ортодоксии и предстал как типичная гностическая ересь, утверждая сущностное тождество Бога и человека. При этом сами деятели византийского, а затем и итальянского Возрождения прекрасно понимали, кто является главным противником их культурной деятельности. Показательным примером здесь выступает учение величайшего византийского гуманиста Георгия Плифона, который в своих «Законах» предложил весьма радикальную реформу общественной системы Византии, главным пунктом которой должно было стать возрождение универсального язычества и «отмена» традиционного византийского христианства [18]. Несомненно, причиной такого предложения была очевидная антикультурная роль византийской православной церкви. По мнению современных исследователей, именно пример Плифона вдохновлял таких радикальных возрожденческих критиков традиционного христианства, как Пико делла Миран-дола и Дж. Бруно [13].
Учитывая эту точку зрения на соотношение византийской культуры XIV в., в частности, исихазма, и итальянского Возрождения, можно попытаться дать более ясное и логичное выражение точке зрения Герцена в отношении византийского влияния на Россию. В истории более очевидным и явным было влияние византийской государственности и византийской церкви на русское государство и русскую православную церковь, это влияние, в общем его итоге, невозможно признать положительным, оно было безусловно негативным, если в качестве критерия правильного развития признать высокую культуру. Однако более внимательный взгляд на историю позволяет увидеть также и влияние развитой византийской культуры на русскую культуру (самым известным примером здесь выступает византийская иконопись), и оно должно оцениваться как безусловно положительное.
Полностью обособить два слагаемых византийского влияния – государственно-церковное и чисто культурное, – конечно, невозможно, поэтому и противопоставление негативного и позитивного результатов общего процесса взаимодействия Руси-России с Византией также можно осуществить только очень условно. Тем не менее без такого противопоставления противоположных тенденций правильно описать византийское влияние на Россию невозможно. Именно непроясненность этого вопроса вела к бесплодным спорам, наглядным примером которых выступает заочная полемика К. Леонтьева и В. Соловьева о роли византизма в истории России. Леонтьев написал свою известную работу «Византизм и славянство» в 1874 г., Соловьев опубликовал статью «Византизм и Россия» в 1896 г., когда Леонтьева уже не было в живых, но направленность этой работы против Леонтьева и его сугубо положительной оценки византизма не вызывает сомнений. Поскольку Соловьев нигде не упоминает имя своего оппонента и прямо не критикует его позицию, его статью можно рассматривать без прямой связи с работой Леонтьева, очевидные недостатки этой статьи помогают более ясно понять достоинства известнейшего труда Леонтьева.
Объясняя причины гибели Византии, Соловьев настойчиво противопоставляет «вселенское христианство», его «живую религиозную истину» и византийскую церковь в ее конкретном национально-ограниченном выражении. Именно неспособность вместить «живую истину» христианства в ограниченной форме церкви Соловьев называет причиной деградации и гибели византийского общества. «Была внутренняя, духовная причина падения Византии, и так как она не заключалась в ложном предмете веры, – ибо то, во что верили византийцы, было истинно, – то причиною их гибели следует признать ложный характер самой их веры, т.е. их ложное отношение к христианству: истинную идею они понимали и применяли неверно. Она была только предметом их умственного признания и обрядового почитания, а не движущим началом жизни» [14, с. 286].
Для ясного понимания проведенного противопоставлении реальной византийской церкви и «вселенского христианства» Соловьев, конечно, должен был бы объяснить, что он имеет в виду под последним. В истории существовали реальные церкви – католическая, православная и протестантская, сущность же «вселенского христианства», не просто отличающегося от них, но даже противостоящего им, кажется совершенно неочевидной. Однако вместо того, чтобы давать это объяснение, что было бы естественно в теоретической статье, Соловьев уделяет неожиданно большое внимание негативным и даже смехотворным обрядовым различиям, которые привели к окончательному разделению западной и восточной церкви, причем изображает дело так, что виновата в этом была только восточная церковь, что явно не соответствует действительности и заставляет думать о его явных симпатиях к католицизму.
Впрочем, если мы обратимся к другим работам Соловьева, например, к капитальному труду «История и будущность теократии», то сможем найти ответ на вопрос о том, что он понимает под «вселенским христианством» и «вселенской церковью»: это грядущая идеальная, единая церковь, в которой должны будут слиться и раствориться ныне существующие христианские конфессии. Но в этом случае ее предвосхищение можно и дòлжно найти во всех исторических христианских церквях, в том числе в византийской. Соловьев обращает внимание на комические детали обряда и верований, но ведь именно в эту эпоху (XIII–XIV вв.), которую он признает эпохой окончательного кризиса византийской церкви, в ней возникает уже упомянутый выше исихазм и Византия переживает некоторый локальный подъем культуры, подобный западному Возрождению. Рождение исихазма, несомненно, свидетельствует о том, что византийская церковь была причастна грядущему «вселенскому христианству» и активно искала путь к нему. Умолчание о нем и вообще исключительно негативное отношение к византийской церкви и византийской культуре делает позицию Соловьева в рассматриваемой статье абсолютно тенденциозной и не имеющей реальной доказательной силы.
Совсем нелепо выглядят обвинения Соловьевым византийской церкви в том, что она не возвысила свой голос против крепостного права и вообще ничего не делала для улучшения общественных отношений: «В течение всей собственно византийской истории (т.е. со времени решительного отчуждения восточного христианского мира от западного – приурочивать ли это отчуждение к XI или же к IX веку) нельзя указать ни на одно публичное действие, ни на одну общую меру правительства, которая имела бы в виду сколько-нибудь существенное улучшение общественных отношений в смысле нравственном, какое-нибудь возвышение данного правового состояния сообразно требованиям безусловной правды, какое-нибудь исправление собирательной жизни внутри царства или в его внешних отношениях, – одним словом, мы не найдем здесь ничего такого, на чем можно было бы заметить хотя бы слабые следы высшего духа, движущего всемирную историю» [14, с. 288].
Можно еще раз подивиться тенденциозности Соловьева: отрицая присутствие «высшего духа» в жизни византийской церкви с XI по XIV вв., он, вероятно, предполагает, что в жизни западной церкви в эти же века этот «дух» действовал более явно. Но тогда это действие русский философ должен был увидеть в беспрецедентном преследовании еретиков, в котором католическая церковь впервые в истории опробовала тактику геноцида, т.е. уничтожения всех мирных жителей страны, которая была объявлена находящейся под властью ереси – мы имеем в виду подавление ересей катаров и альбигойцев. Ничего более значимого, что могло бы претендовать на движение «высшего духа», в жизни католической церкви в эту эпоху мы не находим.
Самое первое определение термина «вселенское христианство» содержится в работе 1882 г., во второй речи Соловьева, посвященной Достоевскому, позже она стала частью работы «Три речи в память Достоевского». Именно у Достоевского Соловьев нашел изображение грядущего христианства, которое он назвал «вселенским» и принял в качестве важнейше- го понятия своей собственной философии. Как утверждает Соловьев, центральной идеей, которой служил Достоевский, «была христианская идея свободного всечеловеческого единения, всемирного братства во имя Христово» [15, c. 302]. Он называет реальное церковное христианство «храмовым», поскольку оно «замыкается в стенах храма и превращается в обряд и молитвословие, а деятельная жизнь остается всецело нехристианскою» [15, c. 303]. Кроме того, он выделяет «домашнее христианство», как жизнь христианской идеи непосредственно в душах людей, как их личную моральную праведность. Но ни то, ни другое не являлось истинным для Достоевского: «Истинное христианство не может быть только домашним, как и только храмовым, – оно должно быть вселенским, оно должно распространяться на все человечество и на все дела человеческие» [15, c. 303]. Дальше Соловьев констатирует: «Христианства вселенского еще нет в действительности, оно есть только задача, и какая огромная, превышающая, по-видимому, силы человеческие задача» [15, c. 303].
В контексте работы о Достоевском Соловьев описывает вселенское христианство и вселенскую Церковь как характеристики грядущего совершенного общества, никак не связанные с нынешними христианскими церквями. Однако в последующих работах, особенно в книге «История и будущность теократии», он начинает понимать вселенскую Церковь как «развитие» нынешней церковной организации человечества. Нужно решительно подчеркнуть, что это ни в коем случае не соответствует представлениям Достоевского. Соловьев ссылается на высказывание Достоевского о церкви в «Дневнике писателя» за 1881 г., но внимательное прочтение этого текста не оставляет никаких сомнения в том, что термин «церковь» Достоевский использует здесь в метафорическом и переносном смысле, а не в буквальном. Критикуя «интеллигентских насмешников» над народом, Достоевский утверждает, что «глубокая ошибка их в том, что они не признают в русском народе церкви»: «Я не про здания церковные теперь говорю и не про причты, я про наш русский “социализм” теперь говорю (и это обратно противоположное церкви слово беру именно для разъяснения моей мысли, как ни показалось бы это странным), цель и исход которого всенародная и вселенская церковь, осуществленная на земле, поколику земля может вместить ее. Я говорю про неустанную жажду в народе русском, всегда в нем присущую, великого, всеобщего, всенародного, всебратского единения во имя Христово. И если нет еще этого единения, если не созижделась еще церковь вполне, уже не в молитве одной, а на деле, то все-таки инстинкт этой церкви и неустанная жажда ее, иной раз даже почти бессознательная, в сердце многомиллионного народа нашего несомненно присутствуют» [6, c. 18–19]. Если смысл «церкви» наиболее точно разъясняется с помощью понятия «русского социализма» и если пока она существует только «в молитве», а не на деле, то ясно, что эта «церковь» ничего общего не имеет с реальной русской православной церковью.
Веское подтверждение сказанному дает известное произведение писателя – рассказ «Сон смешного человека» (из «Дневника писателя» за 1877 г.). Здесь Достоевский наглядно выражает свое представление о грядущем совершенном обществе как гармоничном единстве людей между собой и их единстве с природой. Обратим внимание на то, как он характеризует веру людей этого общества: «Они почти не понимали меня, когда я спрашивал их про вечную жизнь, но, видимо, были в ней до того убеждены безотчетно, что это не составляло для них вопроса. У них не было храмов, но у них было какое-то насущное, живое и беспрерывное единение с Целым вселенной; у них не было веры, зато было твердое знание, что когда восполнится их земная радость до пределов природы земной, тогда наступит для них, и для живущих и для умерших, еще большее расширение соприкосновения с Целым вселенной» [5, c. 114].
Как мы видим, «вера» совершенных людей перестала быть собственно верой в нашем смысле и стала «твердым знанием», личным убеждением каждого человека, поэтому ее поддержание уже не требует авторитарной инстанции в виде церкви, это прямо сказано в тексте Достоевского: у них не было храмов. Собственно говоря, и содержание их «веры» невозможно совместить с учением традиционных христианских церквей, поскольку высшей целью людей этого фантастического общества является вовсе не соединение с Богом, а «расширение соприкосновения с Целым вселенным». Этот тезис, не очень ясный в контексте самого рассказа, становится совершенно логичным и понятным при сопоставлении с некоторыми другими важными текстами Достоевского, прежде всего с рукописным фрагментом 1864 г., написанным на смерть первой жены писателя. Достоевский формулирует последовательную пантеистическую модель развития мира и человека, в ней «Бог» возникает только в конце истории как окончательный и полный синтез всего бытия, причем в центре этого синтеза находится человек, человеческое общество (подробнее см.: [8, c. 306–321]).
Таким образом, если признать, что понятие «вселенское христианство» Соловьев заимствует из мировоззрения Достоевского, в нем невозможно видеть какой-то вариант церковной организации, скорее это нечто противоположное церкви в ее современной форме. Несмотря на очевидность этого первичного смысла понятия, в своем позднем творчестве Соловьев придал ему иной смысл и стал мыслить как грядущую форму единой церкви. Но в этом случае, наоборот, невозможно ни одну из реально существовавших в истории христианских церквей признать исключенной из этой грядущей церкви, все они несут в себе ее «зародыши», и византийская православная церковь не в меньшей степени, чем все другие, должна своими лучшими элементами (такими как исихазм) войти в эту грядущую церковь.
Все сказанное заставляет нас признать статью Соловьева «Византизм и Россия» глубоко противоречивым сочинением, не обладающим ясной системой аргументации и поэтому не дающим убедительного доказательства своим главным тезисам, которые выглядят совершено произвольными и тенденциозными. Весьма вероятно, что в этой статье впервые обнажился внутренний кризис творческого развития Соловьева, приведший его в последний год жизни к полному отречению от своих прежних взглядов в странной, обремененной еще большими противоречиями работе «Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории» (см.: [7, c. 123–154]).
Если мы теперь обратимся к известной работе Леонтьева на тему византизма, то обнаружим там гораздо более ясную логику. Та модель истории Византии и ее влияния на западный мир, которую в первой главе работы излагает Леонтьев, выглядит абсолютно убедительной и согласуется с представленным ранее мнением Герцена. После падения Древнего Рима в V в. Византия сумела в существенной степени сохранить наследие античной, греко-римской культуры и пронести его через века. Существуя рядом с варварской Западной Европой, Византия незаметно и постепенно цивилизовала ее и помогала формировать свою собственную самобытную культуру. Этот процесс закончился в IX в., с воцарением Карла Великого, когда на Западе возникла и стала самостоятельно развиваться цивилизация, отличающаяся от византийской. Завершение ее формирования и ее расцвет в XV в. стали, по Леонтьеву, прямым результатом нового влияния Византии. «На Западе все свое, романо-германское, было уже и без того в цвету, было уже развито, роскошно, подготовлено; новое сближение с Византией и через ее посредство с античным миром привело немедленно Европу к той блистательной эпохе, которую привыкли звать Возрождением, но которую лучше бы звать эпохой сложного цветения Запада; ибо такая эпоха, подобная Возрождению, была у всех государств и во всех культурах, эпоха многообразного и глубокого развития, объединенного в высшем духовном и государственном единстве всего или частей» [10, c. 303].
Очень важно, что этот второй, более короткий и бурный этап влияния на Европу Леонтьев связывает не с религиозным слагаемым византизма, как было на первом этапе, а с художественной культурой: «...Византизм, падая на западную почву, в этот второй раз действовал уже не столько религиозной стороной своей (не собственно византийской, так сказать), ибо у Запада и без него своя религиозная сторона была уже очень развита и беспримерно могуча, а действовал он косвенно, преимущественно эллино-художественными и римско-юридическими сторонами своими, остатками классической древности, сохраненными им, а не специально византийскими началами своими» [10, c. 304]. Фактически Леонтьев признает, что вплоть до момента своей гибели Византия имела богатую и развитую культуру, которая на равных взаимодействовала с западноевропейской культурой и даже была способна стимулировать ее внутреннее развитие. Можно констатировать, что точка зрения Леонтьева вполне согласуется с мнением современных исследователей эпохи Возрождения и с очевидностью опровергает необоснованное негативное отношение Соловьева к Византии и ее культуре.
Говоря о византийском влиянии на Россию, Леонтьев четко различает два вектора этого влияния, выделенных выше. С одной стороны, он совершенно верно констатирует, что русская культуры вплоть до конца XIX в. продолжает нести на себе чрезвычайно сильный и безусловно плодотворный отпечаток византийской культуры, хотя с течением времени он становился все менее заметным на фоне мощного влияния западноевропейской культуры. С другой стороны, он видит прямую зависимость русской государственной и церковной организации от соответствующих византийских форм.
Леонтьев оба вектора влияния считает однозначно положительными для развития России, однако здесь важно заметить, что он не идеализирует историю Византии и признает, что уже с IX–X вв. она вступила в эпоху «застоя», утратила импульс религиозного и культурного развития, что всегда ведет цивилизацию к упадку. «С IX–X века зрелище Византии становится все проще, всe суше, все однообразнее в своей подвижности. Это процесс какого-то одичания, вроде упрощения разнообразных садовых яблок, которые постепенно все становятся одинаково дикими и простыми, если их перестать прививать. Этот род вторичного упрощения, падения, господствовал также в Италии после блестящей эпохи Возрождения; в Испании он настал после Филиппа II» [10, c. 429]. Для объяснения этого процесса Леонтьев использует свою известную теорию о трех фазах развития органических систем, под которыми он понимает и биологические организмы, и общественные системы. Нужно признать, что будучи очень зорким и тонким наблюдателем жизни, в самых разных ее сферах, Леонтьев был плохим теоретиком, его объяснительные модели и прежде всего теория «трех фаз» дают грубое биологи-заторское упрощение сложной и неоднозначной жизни общества. Хотя эта часть его концепции византизма является наиболее известной, мы считаем ее наименее верной и интересной в построениях мыслителя. Впрочем, его интуиция и здесь подсказывает правильный ответ на вопрос о причинах упадка византийской цивилизации; самую важную причину он правильно находит в главной сфере византийской жизни – в религии. Для плодотворности культуры нужна свобода, динамика, какое-то развитие, но церковь по мере усиления ее господства устраняет эту свободу из всех подконтрольных ей сфер, и это становится началом конца цивилизации: «Замечательно, что к X веку были почти уничтожены или усмирены все ереси, придававшие столько жизни и движения византийскому миру. Торжество простого консерватизма оказалось для государства так же вредно, как и слишком смесительный прогресс» [10, c. 429].
Безраздельный диктат церкви – вот что оказывается самым губительным для исторической судьбы культуры, и именно это стало главной причиной сначала «застоя», а потом и гибели византийской цивилизации. Последней попыткой преодолеть этот диктат стал византийский гуманизм XIV в., о котором уже говорилось выше, однако в борьбе с ним церковь вышла победительницей, и его единственным значимым результатом стал исихазм, который, в силу своей внутренней непоследовательности, оказался неспособным дать действенные стимулы для развития культуры. Самым явным свидетельством такого развития является богатая литература, и в Европе каждая новая яркая эпоха порождала богатую и оригинальную литературную традицию. В Византии мы не находим такой богатой литературной традиции, как в Европе, и это связано с господством церкви, которая допускала к распространению только религиозно ориентированные тексты, подобные классическим Четьям-Минеям. Леонтьев чрезвычайно высоко ставит эту житийную традицию, получившую продолжение и в русской православной культуре, однако здесь ему явно изменяет его эстетическое чувство. Наивные житийные истории из Четьих-Миней невозможно поставить в один ряд с настоящей художественной литературой, традиция которой так и не возникла в Византии.
Как уже было сказано выше, одним из важных факторов возникновения итальянского Возрождения была слабость католической церкви, которая духовно деградировала начиная с XI в. Именно ослабление церковного диктата позволило итальянским гуманистам хотя бы на время сделать основой общественного и культурного развития Европы подлинно революционное для той эпохи гностическое мировоззрение, возвышающее человека в его творческих потенциях до Бога. И печальный закат Возрождения во второй половине XVI в. произошел не из-за какого-то мифического «вторичного упрощения», непонятно откуда возникшего, как полагал Леонтьев, а из-за вполне осмысленной и организованной борьбы с этим мировоззрением католической церкви, заново мобилизовавшейся и вернувшей себе полный контроль над Европой.
В отношении России Леонтьев так описывает византийское влияние: «Сила наша, дисциплина, история просвещения, поэзия, одним словом, все живое у нас сопряжено органически с родовой монархией нашей, освященной православием, которого мы естественные наследники и представители во вселенной. Византизм организовал нас, система византийских идей создала величие наше, сопрягаясь с нашими патриархальными, простыми началами, с нашим, еще старым и грубым вначале, славянским материалом» [10, c. 331]. Это описание можно признать правильным, а византийское влияние позитивным, если мы имеем в виду патриархальную, средневековую Россию. Но уже в конце XIX в., когда Леонтьев писал свою работу, Россия стала «слишком» динамичной и «слишком» культурно развитой, чтобы соответствовать этому описанию. Понимая это, мыслитель и высказывает известную мысль о необходимости «подморозить Россию» [11, c. 73], чтобы остановить, как он утверждает, процесс «гниения». В нем начинает говорить церковный фанатик, который не видит ценности высокой культуры и готов отречься от нее ради своей средневековой веры.
Здесь можно обнаружить решительное противоречие в сознании Леонтьева, вполне точно отражающем противоречивый характер византийского влияния на русскую жизнь. С одной стороны, при всей негативности оценок современной Леонтьеву Европы он ни на секунду не сомневается в абсолютном значении высокой культуры, созданной Европой: «Европейское наследство вечно и до того богато, до того высоко, что история еще ничего не представляла подобного» [10, c. 434]. Это наследство не должно пропасть; если России суждено выжить после крушения Запада, она призвана спасти это богатство, чтобы продолжить развитие культуры, ведь, как мы сказали, для Леонтьева это есть универсальный критерий здоровья общества и возможности положительного будущего: «Если Запад впадет в анархию, нам нужна дисциплина, чтобы помочь самому этому Западу, чтобы спасать и в нем то, что достойно спасения, то именно, что сделало его величие, Церковь какую бы то ни было, государство, остатки поэзии, быть может… и самую науку!..» [10, c. 436]. Здесь Леонтьев делает акцент на спасении церкви и государстве, но это как раз выглядит нелогичным, поскольку и то, и другое находилось на Западе с начала XIX в. в глубоком кризисе, по его собственным оценкам, и спасать эти все более деградирующие формы не имело никакого смысла. Имело смысл спасать как раз «остатки поэзии», точнее всю систему культуры, которая, несмотря на общий европейский упадок, продолжала существовать хотя бы в материальной, музейной форме.
Но спасать одни «музеи» не имеет смысла, если не превратить наполняющие их объекты культуры снова, как в эпоху Возрождения, в важнейшую часть жизни людей, ради творчества и все большего цветения культуры. Однако творчество требует свободы – свободы от государственной опеки, от догматических шор на мировоззрении; вместо этого Леонтьев предлагает «подморозить Россию», т.е. предлагает ей пойти по пути поздней Византии к гарантированной гибели, неизбежность которой он сам вполне логично объяснил ранее. Можно еще раз повторить, что Леонтьев был слабым теоретиком: создав примитивную трехчастную схему развития общества, он под эту нелепую схему подгонял бесконечно непредсказуемые судьбы народов и стран, не подчиняющиеся никаким строгим (тем более таким простым) закономерностям. Применительно к России эта модель вела его к выводу о невозможности нового расцвета культуры и, значит, к требованию сознательного лишения ее всех элементов свободы ради «замедления» неостановимого процесса культурной деградации. Но господство фанатично-догматичной веры не может привести в истории ни к чему хорошему, оно способно только губить все живое и творческое.
В определенном смысле «проект спасения России», предложенный Леонтьевым, был реализован в эпоху Александра III, но результатом стало как раз не «спасение», а еще более радикальная катастрофа. Живая энергия народа, загнанная вглубь и не находящая естественного, творческого выражения, прорвалась в разрушительной революции, уничтожившей и самодержавие, и церковь в ее старой форме. Очень характерно, что когда при первых проявлениях революционной энергии самодержавие и церковь были вынуждены ослабить свой контроль над духовной жизнью России, в ней началось культурное движение, вполне сопоставимое с великой эпохой итальянского Возрождения. Сначала культура Серебряного века, а затем авангардное искусство революционной эпохи наглядно продемонстрировали, вопреки теории Леонтьева, что нация, вне зависимости от ее исторического возраста, обладает способностью снова стать творчески активной, обладает способностью начать жизнь снова, ре- ализуя давнюю мечту людей о «вечном возвращении» и «вечной молодости», наперекор всем законам биологии.
Подводя окончательный итог нашим рассуждениям, можно констатировать, что история Византии дает одновременно и великий пример свершения, который нужно правильно понять и попытаться повторить, и горький урок исторической ошибки, которой нужно постараться избежать. Пример для подражания дает способность византийской цивилизации жить почти исключительно духовными ценностями, в отличие от западной цивилизации, поставившей духовные ценности в зависимость от материальных целей и в конце концов вообще забывшей о духовном под гнетом раскрепощенных материальных потребностей. Урок, который мы должны усвоить, чтобы не повторять ошибок Византии, состоит в необходимости выбрать правильную веру, избежав господства в общественной жизни традиционной церкви, которая подавляет культуру и лишает людей творческой энергии.
Список литературы Византизм в истории России: К.Н. Леонтьев и другие
- Герцен А.И. Дилетантизм в науке // Герцен А.И. Собрание сочинений: в 9-ти т. Т. 2. М.: Художественная литература, 1955. С. 7-92.
- Герцен А.И. О развитии революционных идей в России // Герцен А.И. Собрание сочинений: в 9-ти т. Т. 3. М.: Художественная литература, 1956. С.379-515.
- Герцен А.И. Письма об изучении природы // Герцен А.И. Собрание сочинений: в 9-ти т. Т. 2. М.: Художественная литература, 1956. С. 93-330.
- Герцен А.И. С того берега // Герцен А.И. Собрание сочинений: в 9-ти т. Т. 3. М.: Художественная литература, 1956. С. 233-376.
- Достоевский Ф.М. Дневник писателя за 1877 г. // Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: в 30-ти т. Т. 25. Л.: Наука, 1983. С. 5-223.
- Достоевский Ф.М. Дневник писателя. 1881 // Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: в 30-ти т. Т. 27. Л.: Наука, 1984. С. 3-174.
- Евлампиев И.И. Русская философия в европейском контексте. СПб.: Изд-во РХГА, 2017.
- Евлампиев И.И. Образ Иисуса Христа в философском мировоззрении Ф.М. Достоевского. СПб.: РХГА, 2021.
- Киреевский И.В. О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению
- России // Киреевский И.В. Эстетика и критика. М.: Искусство, 1979. С. 248-292.
- Леонтьев К.Н. Византизм и славянство // Леонтьев К.Н. Полное собрание сочинений: в 12-ти т. Т. 7. Кн. 1. СПб.: Владимир Даль, 2005. С.300-442.
- Леонтьев К.Н. Передовые статьи «Варшавского Дневника» (Публицистика 1880 года) // Леонтьев К.Н. Полное собрание сочинений: в 12-ти т. Т. 7. Кн. 2. СПб.: Владимир Даль, 2006. С. 7-107.
- Медведев И.П. Византийский гуманизм Х11-Х111 вв. СПб.: Алетейя, 1997.
- Ревко-Линардато П.С. Влияние византийских гуманистов на культуру итальянского Возрождения // Ценности и смыслы. 2015. № 1. С.5-18.
- Соловьев В.С. Византизм и Россия // Соловьев В.С. Собрание сочинений: в 10-ти т. Т. 7. СПб.: Книготорговое товарищество «Просвещение», 1914. С. 285-328.
- Соловьев В.С. Три речи в память Достоевского // Соловьев В.С. Сочинения: в 2-х т. Т. 2. М.: Мысль, 1988. С. 289-323.
- Чаадаев П.Я. Ответ на статью А.С. Хомякова «О сельских условиях» // Чаадаев П.Я. Полное собрание сочинений и избранные письма: в 2-х т. Т. 1. М.: Наука, 1991. С. 539-545.
- Чаадаев П.Я. Философические письма // Чаадаев П.Я. Полное собрание сочинений и избранные письма: в 2-х т. Т. 1. М.: Наука, 1991. С. 320-440.
- Siniossoglou, N., 2011. Radical Platonism in Byzantium: illumination and utopia in Gemistos Plethon. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.