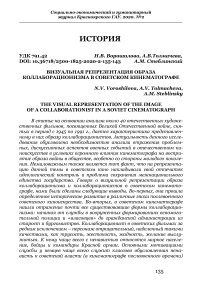Визуальная репрезентация образа коллаборационизма в советском кинематографе
Автор: Ворошилова Н.В., Толмачева А.В., Стеблинский А.М.
Журнал: Социально-экономический и гуманитарный журнал Красноярского ГАУ @social-kgau
Рубрика: История
Статья в выпуске: 2 (16), 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье на основании анализа около 40 отечественных художественных фильмов, посвященных Великой Отечественной войне, снятых в период с 1945 по 1991 г., дается характеристика представленному в них образу коллаборационистов. Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью анализа отражения проблемных, дискуссионных аспектов военных событий в отечественном киноискусстве в условиях огромного влияния кинематографа на восприятие образа войны в обществе, особенно со стороны молодого поколения. Немаловажным также является тот факт, что на репрезентацию данной темы в советском кино накладывали свой отпечаток идеологический контроль и проблема сохранения межнационального единства государства. Говоря о визуальной репрезентации образа коллаборационизма и коллаборационистов в советском кинематографе, нами были сделаны следующие выводы. Во-первых, она прошла определенное историческое развитие в различные эпохи послевоенного советского киноискусства. Во-вторых, в советском кинематографе нашли отражение почти все существовавшие формы коллаборационизма: начиная от службы в вооруженных формированиях вспомогательной полиции и «власовцев» до гражданской администрации из старост и бургомистров. Коллаборационист в советских фильмах за редким исключением - персонаж отрицательный, наделенный такими качествами, как трусость, жестокость, жадность, желание выслужиться. К нему чаще всего с ненавистью относятся мирное население, бойцы и командиры Красной армии. Основными мотивациями службы у немцев чаще всего служит классово обусловленная ненависть к советской власти (в кинематографе послевоенного времени)либо бытовое приспособленчество, а также националистические мотивы (в позднесоветских военно-исторических фильмах).
Коллаборационизм, вторая мировая война, советский кинематограф, коллективная память, образ врага, кино о великой отечественной войне, кинематографический образ, сollaborationism
Короткий адрес: https://sciup.org/140249962
IDR: 140249962 | УДК: 791.42 | DOI: 10.36718/2500-1825-2020-2-135-143
Текст научной статьи Визуальная репрезентация образа коллаборационизма в советском кинематографе
Великая Отечественная война до сих пор остается сакральным символом в исторической памяти русского народа. Чем дальше эти события уходят в прошлое, чем меньше становится живых свидетелей, тем большую роль в формировании образа войны играет кинематограф. После распада Советского Союза отечественный кинематограф стал обращаться к спорным и дискуссионным вопросам истории Великой Отечественной войны. Одним из таких вопросов является сотрудничество советских граждан с нацистской Германией, как военное, так и гражданско-бытовое. До сих пор как в исторической науке, так и в обществе про- должаются дискуссии, кем же в действительности были эти люди – предателями, продавшимися немцам за сытую жизнь, или патриотами, предпринявшими отчаянную попытку спасти родину от внутреннего врага, более страшного, чем враг внешний. Даже численность советских граждан, служивших в коллаборационистских вооруженных формированиях, является предметом дискуссий: по разным оценкам она составляла от 200–300 тыс. до 1,5 млн человек. Массовость и знаковость данного явления в истории Великой Отечественной войны привели к тому, что тема сотрудничества советских граждан с нацистской Германией нередко освещается в отечественном кинематографе, начиная с еще с советских времен [1–3].
Цель статьи – анализ эволюции образа коллаборационизма в советском киноискусстве середины 1940-х – начала 1990-х гг.
Впервые тематика коллаборационизма затрагивается в отечественном кинематографе в эпоху «сталинизма» (1945–1953 гг.), пусть и достаточно редко. По сути коллаборационисты присутствуют на вторых ролях лишь в одном фильме данного периода – «Молодая гвардия» (1948) в виде вспомогательной полиции Краснодона и в образе начальнике краснодонской полиции Соликовского (реально существовавший персонаж). Особо подчеркивался классовый характер мотивации к коллаборационизму, полицаи в «Молодой гвардии» – бывшие кулаки и агенты царской охранки [4].
В период «оттепели» в военно-историческом отечественном кинематографе репрезентация темы коллаборационизма остается такой же редкой. В условиях активизировавшейся в эти годы антицерковной политики советского правительства обвинение в коллаборационизме впервые было использовано в антирелигиозной кинопропаганде, а именно в фильме «Иванна» (1960), где Украинская греко-католическая церковь выставлена пособницей оккупантов и националистов. Униатские монахини агитируют советских военнопленных сотрудничать с немцами, а митрополит Шептицкий высказывает пожелание о привлечении украинцев в немецкую армию. Главная героиня, будучи дочерью священнослужителя, видя зверства оккупантов, одобряемые церковью, сначала отходит от церкви и примыкает к коммунистическому подполью, а в сцене казни демонстративно срывает с себя крест, тем самым отрекается от бога.
В данном фильме также затрагивается тема коллаборационизма украинских националистов: за несколько часов до прихода немцев они поднимают восстание во Львове, а затем вступают во вспомогательную полицию в черной униформе бойцов батальонов шума (шума – сокр. от шуцманша́фт, нем. Schutzmannschaft, особые подразделения на оккупированных территориях в годы Второй мировой войны, карательные батальоны, как правило, формировавшиеся из местного населения и во- еннопленных. – Авт.), и охрану концлагерей, и все это под покровительством той же Греко-католической церкви [5].
Очень косвенно, незаметно для обычного зрителя, коллаборационизм затрагивается в картине «Судьба человека» (1959). Главный герой – Андрей Соколов, служащий водителем (частично одетый в немецкую униформу) в Организации Тодта – военно-строительной организации, действовавшей в Германии во времена Третьего рейха, фактически является хиви. Впрочем, для простого советского зрителя, незнакомого с явлением «добровольных помощников» в вермахте, главный герой воспринимается не как коллаборационист, а как простой военнопленный, насильно привлеченный к работе водителя.
С середины 1960-х и вплоть до перестройки начинается новый этап в освещении темы коллаборационизма. Во-первых, оно становится более историчным. Мотивация представленных героев также меняется: классовая ненависть к советской власти сменяется простым шкурничеством и продажностью.
Подобные тенденции хорошо проявляются в наиболее известном кинопроизведении данного периода, посвященном Великой Отечественной войне, – киноэпопее «Освобождение» [6]. Например, во второй серии (фактической экранизации повести «Батальоны просят огня») в сцене доставки захваченного в плен бойца РОА, до этого убившего несколько советских солдат. Понимая, что скорее всего его расстреляют, он сначала пытается изобразить немца, начинает на коленях безуспешно молить о прощении, прикрываясь тем, что его «заставили», и пытается вызвать жалость, показывая фотографии жены. В более поздней экранизации данного произведения «Батальоны просят огня» (1985) сцена с допросом и расстрелом «власовца» повторяется практически один в один.
В «Освобождении» также впервые появляется и наиболее известная фигура коллаборационизма – генерал Власов. Он пытается сначала привлечь сына Сталина Якова к сотрудничеству, а затем убедить советских военнопленных вступить в РОА. Из нескольких сотен соглашаются лишь единицы. Буквально через несколько лет образ Власова появляется в фильме «Родины солдат» (1975), в основе сюжета которого безуспешные попытки немцев привлечь генерала Карбышева к сотрудничеству и его действия по противодействию вербовки советских военнопленных в РОА.
В так называемом «партизанском кино» (трилогия «Дума о Ковпаке», 1973–1976; «Фронт за линей фронта», 1978; «В лесах под Ковелем», 1984) активно фигурирует вспомогательная полиция, правда, скорее в роли массовки второго и третьего плана. Во многом из этих фильмов пошел стереотип о внешнем виде вспомогательной полиции в черной униформе. При этом, говоря о трилогии о Ковпаке студии Довженко, стоит отметить, что здесь была показана антинемецкая направленность деятельности Украинской Повстанческой армии (которая в советском кинематографе всегда изображалась как чисто коллаборационистское формирование), пусть и чисто пропагандистская. Один из захваченных партизанами «бандеровцев» заявляет, что он «против немцев, за вильну Украину», и показывает Ковпаку антинемецкую листовку УПА, на что тот, правда, замечает, что она напечатана в Берлине [7].
Из всего «партизанского кино» подробно тема коллаборационизма затрагивается лишь в получившем главный приз Берлинского кинофестиваля фильме «Восхождение» (1976) – экранизации повести Василя Быкова. Немцы в фильме практически не появляются. Допрос и казнь главного героя (партизана), а также девочки-еврейки и бывшего старосты осуществляет местная вспомогательная полиция. Основой сюжета является проблема сохранения личного достоинства в условиях, когда лишь предательство может спасти от неминуемой казни. Партизан Сотников (бывший учитель) не называет следователю даже свою фамилию и непокоренным идет на казнь, а вот второй партизан Рыбак (бывший кадровой военный-окруженец) сначала из желания сбежать, а затем из страха смерти соглашается вступить в полицию и лично выбивает полено из-под ног Сотникова [8].
В 1970-х гг. один из фильмов, в центре сюжета которого находилась тема коллаборационизма, попал на «полку». Это картина Алексея Германа «Проверка на дорогах» (снятый в 1971 году, он был показан лишь в 1985 году). Во многом это было связано с тем, что главный герой Лазарев – это боец ост-частей, перебежавший к партизанам, при этом в отличие от стандартных «киновласовцев» он персонаж, не вызывающий презрение, а скорее трагический, пошедший на путь предательства в силу невыносимых условий плена, а не шкурничества и продажности. Он показан более положительным, чем, например, довольно жестокий комиссар партизанского отряда, готовый ради выполнения боевой задачи послать на смерть несколько десятков советских военнопленных. Это, впрочем, не касается остальных коллаборационистов в фильме – молодого полицейского в плену партизан (после удачного побега, судя по форме, ставшего уже бойцом ост-частей или хиви), и бывшего сослуживца Лазарева, служащего пулеметчиком на вышке. Они лишь приспособленцы с низкими моральными качествами [9].
Вышедший на экраны в канун перестройки фильм «Иди и смотри» (1985) активно поднимает тему коллаборационизма, причем коллаборационисты выступают здесь в роли активных участников немецкой карательной политики на оккупированных территориях. Карательный отряд, сжигающий ближе к концу фильма белорусскую деревню, почти наполовину состоит из коллаборационистов всех мастей – от вспомогательной полиции до ост-частей с нашивками РОА. Оккупанты презрительно относятся к коллаборационистам как к расходному материалу, в ходе карательной операции в родной деревне главного героя немцы обливают бензином и поджигают старосту, и чуть не оставляют одного из по- лицейских в сжигаемом сарае с людьми. Впрочем, «власовцы» и «полицаи» показаны вполне заслуживающими такого отношения, сначала они со звериной жестокостью помогают немцам убивать мирное население, но после попадания в плен к партизанам ради спасения своей жизни готовы тут же отречься от своих «хозяев» и даже показательно казнить немцев, облив из канистры бензином. В какой-то степени символичным был тот факт, что роль майора СД, командующего карательной операцией, в фильме сыграл Виктор Лоренц, в молодости служивший в Латышском легионе СС [10].
Говоря о кинематографе перестройки, стоит отметить, что несмотря на то, что в этот период времени в военно-историческом кинематографе начинают затрагиваться ранее замалчиваемые аспекты войны, вроде репрессий в армии, штрафных батальонов и заградительных отрядов, тематика коллаборационизма оказалось обойдена стороной. Единственным исключением является фильм «Красный цвет папоротника», посвященный сложным взаимоотношениям советских партизан и Армии Крайовой, где упоминается участие Калмыцкого кавалерийского корпуса в антипартизанской операции [11].
Отдельно стоит выделить кинематограф прибалтийских республик – в особенности Латвийской и Эстонской ССР. Великая Отечественная война на данных территориях по сути носила характер гражданской войны, что в Красной армии, что в частях вермахта и СС служило примерно одинаковое количество латышей и эстонцев. При этом значительное число попавших в национальные легионы СС были насильно мобилизованы. Это не могло не привести к тому, что даже в условиях жесткой цензуры проблема коллаборационизма довольно активно поднималась в местном кинематографе, правда, большинство этих фильмов практически не показывались за пределами республик, предназначаясь в большей степени «для местного употребления». Причем это касалось местного кинематографа даже в сталинскую эпоху. Так, в фильме «Жизнь в цитадели» (1947) постоянно упоминается, что наиболее жесткими надзирателями в немецком концлагере (часть заключенных в котором – эстонцы) были сами эстонцы. А в конце главный герой, живущий в затворничестве профессор биологии, равнодушно относящийся к политике, узнает, что его племянник и сын от первого брака – скрывающиеся охранники концлагеря. Шокированный этим фактом, он отрекается от них и сдает их представителям советской власти. Ради того, чтобы избежать разоблачения, они убивают офицера СС, который при наступлении советских войск пытается у них укрыться, и пытаются убить самого профессора, когда он заявляет, что сообщит о них соответствующим органам [12]. Таким образом, даже в условиях сталинизма в кинематографе показывается фактический раскол среди эстонцев в условиях войны, проходящий даже между близкими родственниками.
В 1964 году по инициативе первого секретаря ЦК компартии Латвийской СССР Арвида Пельше было решено снять фильм о столь слож- ном для республики времени, как Вторая мировая война и насильственная мобилизация латышей в немецкую армию. Результатом стал вышедший два года спустя художественный фильм «Я все помню, Ричард», основой сюжета которого стала судьба трех друзей, которых насильно мобилизовали в Латышский легион СС и отправили на фронт в район Волховских болот. После войны один из них раскаялся и живет как прилежный советский гражданин, но он оказывается убит своим другом, бежавшим в Швецию и ставшим агентом неназванной западной разведки, после неудачной попытки склонить его к подрыву памятнику советским воинам [13].
Немаловажным является тот факт, что судьба главных героев во многом пересекается с судьбой создателей фильма. Автор сценария Виктор Лоренц сам служил в Латышском легионе СС (а его отец был член антисоветского т.н. «Латвийского центрального совета»), и во многом сюжет основан на его воспоминаниях. В СС также служил один из главных актеров фильма – Харий Лиепиньш. Режиссер же Роланд Кальниш несколько месяцев в 1944 году укрывался от мобилизации в легион у друзей.
Несмотря на то что картина была одобрена Политбюро Латвийской компартии и Героем Советского Союза Вилисом Самсонсом, командиром Первой латвийской партизанской бригады, она попала в ограниченный прокат на две недели в малых кинотеатрах. По распоряжению ЦК Латвийской компартии о фильме не писали рецензий и не упоминали в прессе.
Тема службы эстонцев в частях СС поднимается в отдельных эпизодах фильма «Люди в солдатских жилетах» (1968), сначала в эпизоде перебега на сторону немцев одного из бойцов (в дальнейшем он вступает в Эстонский легион СС) под Великими Луками, а затем в сцене переправы через реку, когда оказывается, что части, противостоящие красноармейцам-эстонцам, полностью состоят из эстонцев. Более того, один из красноармейцев узнает в одном из эсэсовцев своего соседа (добровольца, награжденного железным крестом) и о том, что его жена сожительствует с немецким офицером, а сын насильно мобилизован во вспомогательные части [14].
Наиболее широко тематика коллаборационизма представлена в латвийском многосерийном фильме «Долгая дорога в дюнах» (1982), в котором история любовного треугольника простого рыбака Артура, дочери кулака Марты и сына фабриканта-фолксдойче Рихарда разворачивается на фоне грандиозных событий латвийской истории 1939–1970 гг. Вспомогательная полиция формируется из вышедших из леса Айзсаргов – военизированного формирования в Латвии в 1919–1940 гг., а старосты и чиновники сельской администрации – из «кулаков». Латышский корпус СС показан эпизодически, но говорится о принудительном порядке набора личного состава. В сцене отправки латышской молодежи на работу в Германию рядом с флагом Третьего рейха развивается Латвийский национальный триколор. Эта сцена засилья среди показанных коллаборационистов политической и военной элиты довоенной Латвии призвана подчеркнуть фактическую преемственность немецкого оккупационного режима с политическим режимом Улманиса. Один из главных героев – сын фабриканта из остезских немцев. После присоединения Латвии к СССР он бежит в Германию, вернувшись назад лишь летом 1941 года. Как фольксдойче он получает от немцев различные привилегии, включая заказы от военных его фабрике, и квартиру в центре Риги, до этого принадлежавшую евреям. Однако в отличие от отца он в большей степени считает себя латышом, чем немцем, и активно контактирует с латышскими националистами. После прихода советских войск Марта как дочь старосты и жена фабриканта-фольксдойче, отказавшись бежать с отступающими немецкими частями, попадает в ссылку в Иркутскую область [15].
Таким образом, говоря о визуальной репрезентации образа коллаборационизма и коллаборационистов в советском кинематографе, можно выделить ряд особенностей. Во-первых, она прошла определенную эволюцию в различные эпохи послевоенного советского кино. Ключевым аспектом, который подвергся изменениям в кинорепрезентации, являлась мотивация коллаборациониста: от преимущественно классовой ненависти к советской власти в «сталинском» кинематографе до трусости, шкурничества или националистических мотивов в позднесоветском кино.
Во-вторых, в советском кинематографе нашли отражение почти все существовавшие формы коллаборационизма: начиная от службы в вооруженных формированиях вспомогательной полиции и «власовцев» до гражданской администрации из старост и бургомистров. Коллаборационист, за редким исключением, – персонаж отрицательный, наделенный такими качествами, как трусость, жестокость, жадность, приспособленчество, желание выслужиться. К нему чаще всего с ненавистью относятся мирное население, бойцы и командиры Красной армии. Немцы, и те относятся к нему с презрением или насмешкой.
Отдельно стоит выделить кинематограф прибалтийских республик – в особенности Латвийской и Эстонской ССР. Великая Отечественная война на данных территориях по сути носила характер гражданской войны – что в Красной армии, что в частях вермахта и СС служило примерно одинаковое количество латышей и эстонцев, хотя значительное число последних были мобилизованы насильно. Поэтому даже в условиях жесткой цензуры проблема коллаборационизма довольно активно поднималась в местном кинематографе, хотя большинство этих фильмов практически не показывались за пределами республик.
http://cyberleninka.ru/article/n/dinamika-obraza-vraga-v-sovremennyh-filmah-o-velikoy-otechestvennoy-voyne (дата обращения: 09.10.2016).
Literatura i istochniki
-
1. Drobjazko S.I. Vtoraja mirovaja vojna 1939–1945: Russkaja
osvoboditel'naja armija. M.: AST, 2000.
-
2. Makarov D.V., Dronov V.A. Dinamika obraza vraga v sovremennyh fil'mah o Velikoj Otechestvennoj vojne // Vlast'. 2013. № 2. URL:
-
3. Semirjaga M.I. Kollaboracionizm. Priroda, tipologija i projavlenija v gody Vtoroj mirovoj vojny. M.: Rossijskaja politicheskaja jenciklopedija (ROSSPJeN), 2000.
-
4. «Molodaja gvardija» (rezh. Sergey Gerasimov , 1948).
-
5. «Ivanna» (rezh . Ivchenko V.I ., 1959).
-
6. «Osvobozhdenie» (rezh. Jurij Ozerov , 1968–1971).
-
7. «Duma o Kovpake. Karpaty, Karpaty…» (rezh. Timofej Levchuk , 1976).
-
8. «Voshozhdenie» (rezh. Larisa Shepit'ko , 1976).
-
9. «Proverka na dorogah» (rezh. Aleksej German , 1971).
-
10. «Idi i smotri» (rezh. Jelem Klimov ,1985).
-
11. «Krasnyj cvet paporotnika» (rezh. Viktor Turov ,1988).
-
12. «Zhizn' v citadeli» (rezh. Gerbert Rappaport , 1947).
-
13. «Ja vse pomnju, Richard» (rezh. Roland Kalnyn'sh , 1966).
-
14. «Ljudi v soldatskih zhiletah» (rezh. Juri Mjujr , 1968).
-
15. «Dolgaja doroga v djunah» (rezh. Aloiz Brench ), 1982).

http://cyberleninka.ru/article/n/dinamika-obraza-vraga-v-sovremennyh-filmah-o-velikoy-otechestvennoy-voyne (data obrashhenija: 09.10.2016).
Список литературы Визуальная репрезентация образа коллаборационизма в советском кинематографе
- Дробязко С.И. Вторая мировая война 1939-1945: Русская освободительная армия. М.: АСТ, 2000
- Макаров Д.В., Дронов В.А. Динамика образа врага в современных фильмах о Великой Отечественной войне // Власть. 2013. № 2. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/dinamika-obraza-vraga-v-sovremennyh-filmah-o-velikoy-otechestvennoy-voyne (дата обращения: 09.10.2016).
- Семиряга М.И. Коллаборационизм. Природа, типология и проявления в годы Второй мировой войны. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2000.
- "Молодая гвардия" (реж. Сергей Герасимов, 1948)
- "Иванна" (реж. Виктор Ивченко, 1959)
- "Освобождение" (реж. Юрий Озеров, 1968-1971)
- "Дума о Ковпаке. Карпаты, Карпаты…" (реж. Тимофей Левчук, 1976)
- "Восхождение" (реж. Лариса Шепитько, 1976)
- "Проверка на дорогах" (реж. Алексей Герман, 1971)
- "Иди и смотри" (реж. Элем Климов,1985)
- "Красный цвет папоротника" (реж. Виктор Туров,1988)
- "Жизнь в цитадели" (реж. Герберт Раппапорт, 1947)
- "Я все помню, Ричард" (реж. Роланд Калныньш, 1966)
- "Люди в солдатских жилетах" (реж. Юри Мюйр, 1968)
- "Долгая дорога в дюнах" (реж. Алоиз Бренч), 1982)