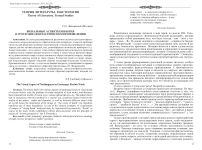Визуальные аспекты небытия в гротескно-фантастическом произведении
Автор: Лавлинский Сергей Петрович
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Теория литературы. Текстология
Статья в выпуске: 2 (33), 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются различные аспекты гротескно-фантастического модуса визуального в фантастической литературе: ставится проблема читательской рецепции подобных произведений, а также рассматриваются характерные для них мотивы видения, глаз, разнообразных оптических приборов и т.д. Автор показывает, что в связи с этим особым образом актуализируется проблема границы между мирами автора/читателя и героя, а также между разными сферами художественного мира: отсюда значимость образа «видения смерти», манифестирующего переход одной из таких границ. В качестве одного из ярких примеров визуализации образов «видения смерти» анализируется рассказ Сигизмунда Кржижановского «Четки», в ходе исследования которого устанавливается прямая связь его поэтики с принципом «обратной перспективы» (П. Флоренский).
Визуальное, воображаемое, гротескно-фантастическое, архетипические мотивы, онтология взгляда, обратная перспектива, позиция читателя
Короткий адрес: https://sciup.org/14914490
IDR: 14914490
Текст научной статьи Визуальные аспекты небытия в гротескно-фантастическом произведении
Понял теперь я: наша свобода Только оттуда бьющий свет...
Николай Гумилев
Реализм видел мир простым глазом; символизму мелькнул сквозь поверхность мира скелет - и символизм отвернулся от мира. Это тезис и антитезис, синтез подошел к миру со сложным набором стекол - и ему открываются гротескные, странные множества «точечных» миров...
Евгений Замятин
Рецептивное вхождение читателя в мир героя, по мысли В.Н. Топорова, всегда сопровождается «феноменологической редукцией», которая представляет собой замыкание того, что было («тогда - там - он») с «теперь - здесь - Я». В основе подобного совмещения - «спайности бытия» (П.А. Флоренский) - «лежит своего рода подыскивание себе, своему Я парадигмы, генеалогии, причины». Позиция читателя в таком случае всегда соотносится с хронотопом героя произведения и определяется механизмами имагинативной самоидентификации, логикой «отождествления себя с воображаемой ситуацией и соответствующей перспективой»1. Очевидно, такого рода идентичность читателя можно интерпретировать как гротескную.
С точки зрения формирования гротескной позиции читателя, особую роль играют воображаемые ситуации и «перспективы» смерти, представленные в некоторых фантастических произведениях. С феноменологической точки зрения, встреча героя и читателя со смертью, как правило, реализуется здесь благодаря визуально оформленному пространственно-временному полаганию смысла небытия - художественной репрезентации взгляда смерти, под прицелом которого трансформируется не только мир героя, но и хронотопические контуры того, что читатель по традиции считает реальностью.
О чем в данном случае идет речь? Попробую пояснить.
Встреча героя и читателя со смертью происходит на границе. По мысли Е. Фарино, специфика подобного рода границы «состоит в том, что каждая ее точка принадлежит одновременно двум разделяемым сферам, а она сама из разделяющей превращается в разделяющее-объединяющую, в медиатора. Пребывание на такой границе носит характер амбивалентного состояния “присутствия-отсутствия”, “реально-ирреального”, “чужого-своего”, “двойного бытия” и т.п. <...> Эти промежуточные состояния часто возводятся в ранг единственного состояния мира, они не предполагают перехода к состояниям четким и определенным. Они - не переход в равно реальное, а зона, которая позволяет соприкоснуться с “вечностью”, с “запредельным”»2.
Среди произведений, в которых представлены модели взаимодействия героя с пространственно постулируемым иным миром, особо выделяются те, где рассказывается об испытаниях «предельно близким зрением» (М. Ямпольский) - по сути, это и можно считать испытанием взглядом небытия. Читатель вынужден здесь осваивать механизмы сознания, связанные в литературе, по мысли Ц. Тодорова, с гротескно-фантастическими образами и темой взгляда. Сюжетная ситуация, определяемая темой взгляда, в свою очередь, соотносится с «культурой антиглаза» или «минус -зрения» (Топоров) - данное понятие перекликается с понятием романти- ческого «лимита зрения», принадлежащим Н.Я. Берковскому.
Как отмечал Берковский, у романтиков «зрению извне представляются одни человеческие лимиты, но нужен хотя бы намек, что не за ними последнее слово, что за областями, ими обведенными, возможны еще и совсем иные»3. Именно поэтому в произведениях романтиков вместо панорамно-исторического видения «широкого пространства» прямой перспективы читатель осваивает вербально-оптические способы одинокого, интровертно-фантазматического сознания, сконцентрировавшегося на рассматривании за-предельного, тотально чужого. Как нетрудно понять, особая роль в таких случаях отводится перспективе обратной, задающей параметры гротескной реальности, которая выражает саму суть иного и визуальные способы его восприятия. Неслучайно слово взгляд всегда, по мысли Тодорова, заставляет вспомнить поэтику гротеска как таковую. Обращаясь к произведениям Гофмана (прежде всего к «Принцессе Брамбилле» и «Песочному человеку»), которые «буквально наводнены микроскопами, лорнетами, настоящими и фальшивыми глазами и т.п.»4, Тодоров заметил, что любое появление элемента сверхъестественного, неопознаваемого в визуальном опыте наблюдателя, сопровождается введением сюжетно-композиционных элементов темы взгляда: к примеру, «в мир чудесного можно проникнуть с помощью очков и зеркал»5.
Так у Гофмана обычный мир открывается только обыденному сознанию, «бюргерскому» взгляду - в нем нет и быть не может ничего таинственного, приближающего к смерти, приковывающего внимание наблюдателя своей странной непроясненностью и способностью взирать «из-за предела» на самого наблюдателя. Между тем, именно «косвенный взгляд» представляет собой единственный путь героя к сверхъестественному, а также путь трансцендентного к герою и читателю6. «Косвенный взгляд», по Тодорову, преодолевает видение в его привычных формах, становясь, по сути, трансгрессией взгляда, символом взгляда как феномена. В гротескно-фантастической традиции он может восприниматься как взгляд небытия, противоположный взгляду, который интерпретируется героем и читателем как нормальный, прямой, трезвый, реалистичный.
Возможность воспринимать иное стимулируется «символами непрямого, искаженного, извращенного взгляда, каковыми являются очки и зеркало»7. Оптические приборы и разнообразные средства становятся образом взгляда, который отныне уже не является простым средством привязки глаза к некой точке в пространстве, теперь это не чисто функциональный, прозрачный и переходный взгляд. Эти предметы - в некотором смысле материализованный, непрозрачный взгляд, квинтэссенция взгляда. Существенна связь «квинтэссенции взгляда» с визионерским потенциалом: «Та же плодотворная двусмысленность присутствует и в слове “визионер” (visionnairey это человек, который видит и не видит, представляя собой одновременно и высшую степень, и отрицание видения»8.
Предельный вариант подобного «отрицания видения посредством видения» находим в рассказе Сигизмунда Кржижановского «Автобиография трупа», где трансгрессия взгляда выражена мотивом отделения зрения от наблюдателя (герой снимает очки, и мир как налипь исчезает из сферы его созерцания). М. Ямпольский, обративший внимание на эту особенность поэтики Кржижановского, интерпретирует отмеченное отделение

как своего рода символическую смерть человека-наблюдателя: «Стирание пространства открывает феноменальную бесформенность (“точечного”) “не-зрения”, как будто маскируемого видением»9.
Топоров впервые показал, что Кржижановский вообще активно разрабатывал в отечественной литературе XX в. модель рецепции пространственно-временных координат внешнего и внутреннего миров, здешнего и метафизического, ближнего и дальнего, которые концентрируются в «ми-нус-хронотопных» измерениях и определяют свою «бытийно-небытийную» сущность в «щелях мира». По собственным словам писателя, сферой его творческого поведения являлся «экспериментальный реализм», - в некотором смысле, «реализм экспериментального зрения». Тема взгляда и сопряженные с ней сюжетные мотивы и образы зрения (в том числе и «минус-зрения»), видения, глаз, зрачков, разнообразных оптических приборов («квинтэсенций взгляда»!) и т.п. являются одними из ключевых в таких рассказах, как «Странствующее «Странно», «Собиратель щелей», «Четки», «Страна нетов», «Штемпель: Москва (тринадцать писем в провинцию)» и др.
Вещественная выраженность взгляда, направленного за границы здесь-видимого, помимо нарративной и сюжетной экспликации, обладает особым рецептивным потенциалом. В связи с рассмотрением пространственно-событийной логики произведений Кржижановского Топоров размышлял об «изоморфизме творца и творения, поскольку в каждом из них порознь творящее и творимое начала <.. .> неразрывно связаны друг с другом»10. Это создает особые условия для восприятия читателем текста и художественного мира писателя в целом:
«Уже при первом чтении удается составить довольно определенное представление о пространстве Кржижановского, о геометрии этого пространства; более того, читатель не только осваивает правила этого пространства, но и, по-видимому, готов иногда сам освоиться в нем, приняв его, может быть, даже в свой личный пространственный опыт, который становится от этого приобретения более богатым: пространство перестает быть нейтральным и гомогенным, но более диференцированным, разнородным, антропологично-центрированным, личным, Я-ориентированным»11.
Парадоксальность пространства, в котором смещаются границы внешнего и внутреннего, реального и фантазматического и т.п., по словам исследователя, вынуждает читателя принять его в свое сознание, «точнее -во все слои пространства восприятия - от сферы подсознательного до сферы мистически-провидческого», визионерского. Рецептивный опыт в данном случае определяется эффектом хронотопической «заразительности» - читатель «инфицируется» этим пространством, а через пространство и сюжетами произведений писателя12. Он вслед за героем обретает способность к «двойному зрению», позволяющему воспринимать бытийное и потустороннее в своей внезапно открывшейся одновременности13.
Стоит также отметить, что многие психофизиологические и метафизические эксперименты Кржижановского с внезапно открывающимися возможностями человеческого видения перекликаются с некоторыми феноменологическими соображениями Флоренского и М. Мерло-Понти о при- роде зрения. Глаз, по мысли первого, есть орган и пассивного осязания, и активного движения. Еще Аристотель отмечал, напоминает Флоренский, что зрение представляет собой утонченное осязание, ощупывание предмета глазом посредством светового луча. Древние рассматривали глаз как нечто движущееся, подходящее посредством испускаемых им лучей к предмету и его осязанию вплотную. Ссылаясь на древних философов, Флоренский замечает, что глаз вместе с другими органами восприятия происходит из того же зародышевого листка, что и кожа. Именно поэтому глаз и кожа являются попавшими на поверхность тела органами нервной системы14.
Вместе с тем, психологические механизмы визуального опыта, подобные тем, что детально воспроизводятся Кржижановским, всегда имеют не только физиологическую, но метафизическую подоплеку, поскольку, как отмечал Мерло-Понти, только зримое дает наличное бытие того, что не есть «я», того, что в полном смысле этого слова есть;
«Это возможно потому, что зримое представляет собой как бы уплотнение, сгущение универсальной зримости, единого и единственного Пространства, которое и разделяет, и объединяет, образуя основу всякой связи (даже связи прошлого и будущего, поскольку ее не было бы, не будь они частями одного и того же Пространства). Каждая отдельная видимая вещь, при всей ее индивидуальности, служит вместе с тем еще и общим мерилом видимого, поскольку определяется как результат разделения, раскола тотального Бытия»15.
В произведениях Кржижановского рассматриваются различные варианты «сгущения универсальной зримости» в визуальном опыте человека, преодолевающего «лимиты зрения» на границе жизни и смерти.
Обратимся к рассказу писателя «Четки» (1921), где описывается один из вариантов подобного преодоления.
В «Четках» композиционно выделены три части: две первые маркируются римскими цифрами, последняя - отточиями. Центральным событием первой является встреча героя-рассказчика (от его лица и ведется повествование), прогуливающегося за городом со стариком («человеком, которого встречают в полях», как характеризует себя незнакомец). Старик дарит главному герою в знак благодарности за помощь, ему оказанную (герой находит в траве потерянный стариком «предмет» - «ноту ля-диез: с первой приписной линейкой»), «странные четки». Центральное событие второй части - офтальмологические эксперименты с четками. В последней части рассказывается о результатах эксперимента героя и внезапно открывшихся ему новых горизонтах видения.
Нетрудно заметить, что Кржижановский намеренно выстраивает художественную модель, ориентирующую читателя на определенный способ восприятия сюжетной основы произведения. Ее составляют архаические мотивы волшебной сказки: путешествие в «чужой» мир - встреча с дарителем - получение «чудесного предмета» - возвращение обратно. Последнее сюжетное звено самое важное, поскольку представляет собой подробное изображение событий, происходящих благодаря постижению тайны «чудесного предмета» в «своем» мире. В качестве оптического средства «косвенного видения» выступает офтальмоскоп - посредник между глазом героя и глазами мертвых философов.
Однако использование этой схемы, ориентация читателя на актуализацию сюжетных констант восприятия волшебной сказки, на «эстетику тождества» соотносимо с реализацией совершенно иного смысла. Он определяется сюжетным парадоксом, который реализуется благодаря визуальной материализации метафоры, появляющейся в самом начале рассказа и объясняющей читателю цель путешествия героя. «Придумыватель мыслей и книг», «думальщик» отправляется за город, чтобы «одолжить у ока небо-поля чувство малости и затерянности»: «... ив тот день (было прозрачное сентябрьское предвечерне) я вышел за шлагбаум не так, не просто, не прогулки ради, а за делом: мне нужно было одолжить у небополя на час-два чувство малости и затерянности»16 (здесь и далее рассказ цитируется по указанному изданию).
Метафора «око небополя» как бы выходит из своих семантических берегов: слово «око», появившись в начале повествования, получает сюжетные обертоны и пронизывает весь текст, то в завуалированном виде, то в непосредственно явленном. «Оком» обладает не н е б о (что было бы вполне традиционным использованием этого слова в метафорическом образовании) и не и о л е сами по себе, а их единство, «двутелость», не позволяющая читателю интерпретировать око как составную часть исключительно земного или небесного пространства.
Прогулка героя имеет креативную мотивировку: он отправляется «в поля» (граница - «за шлагбаум») «за делом <...> Одно место во второй главе моей работы, требующее именно этой эмоции, никак не давалось среди стен. Делать было нечего» (165). Позаимствовать «нужную эмоцию» («чувство малости и затерянности»), чтобы ликвидировать «недостачу», означает для героя стать объектом разглядывания, проникнуть в секреты этого нечеловеческого способа видения и использовать его в дальнейшем в креативных целях. Соответствующая эмоция переживается как бы в зазоре между взглядом внешним и внутренним, человеческим и нечеловеческим («оком небополя»),
В первом же абзаце, повествующем о прогулке «за делом», для читателя уточняется одна существенная характеристика восприятия пространства городского и загородного. Прямые и ломанные линии городских улиц требуют от наблюдателя «кружащегося взгляда» - «глаз, привыкший кружить путаницами улиц и стен, ерзать среди пестрот, втянувшийся в дробность и разорванность городского восприятия», глаз, ищущий «деталей и мельков» (165). Глаз городского жителя изоморфен предмету своего наблюдения, он готов воспринимать пространство только как горизонтальное (прямое) и разорванное (ломкое, состоящее из мельков и деталей, по которым кружит глаз).
Траектория видения «кружений полевого проселка» иная. Ее логика непосредственно представлена в тексте: «зелень - синь - небо - земля - и все». Движение взгляда героя маркируется в сознании читателя как движение вертикальное (снизу - вверх, сверху - вниз). В данном случае читатель имеет дело с восприятием пространственного парадокса: движение по прямой совмещается с кружением взгляда и движением по вращающемуся пространству. Стало быть, восприятие пространства и в первом, и во втором случае есть восприятие движущегося человеческого тела - читатель имеет дело с «видением без остановок», видением-становлением.
Первое пространство понятно, оно близко (герой встроен в него), но лишено креативного потенциала, второе - непостижимо, далеко, но переживаемо в своей непостижимости. Однако и в первом, и во втором случае герой имеет дело с рецепцией мира прямой перспективы - мира, который он опознает как чужой.
Существенно, что рассказчик «Четок» способен воспринимать природу только с квадрата холста (как природу изображенную и посредством прямой перспективы удержанную): «На природу с квадрата холста, из тисков рамы, с подклеенным снизу номерком, я еще, скрепя сердце, согласен: тут я смотрю ее. А там, в поле, небом прикрытом, она смотрит меня, вернее сквозь меня, в какие-то свои вечные дали, мне, тленному, с жизнью длиною в миг, чужие и невнятные» (164).
Чуть позднее, объясняя старику «чего он ищет в полях», герой говорит: «В поля меня послали книжные поля: я здесь по их воле (здесь важна соотнесенность и «спайность» двух полей: одни поля связаны с миром природы, другие - с миром «придумывания» - первичность по отношению к Я героя книжного пространства, обладающего собственной волей - С.Л.) <...> Перу моему, не мне (!), ему нужны слова, слова малости и затерянности: там в городе, их никак и нигде не достать» (167; существенно использование глагола достать в речи героя - оно призвано атрибутировать начальную сюжетную ситуацию как архетипическую: как известно, герой волшебной сказки отправляется в «чужой» мир для того достать нечто, недостающее ему в «своем» мире. Таким образом, функциональные признаки «мира небополя», как уже говорилось, уподобляют его «миру смерти» - С.Л.).
Далее «думальщик» объясняет старику, зачем ему нужны «слова затерянности и малости»: «У наших письменных столов слово «я» переросло горы: уперлось гнутыми ножками в землю, в чернильную петлю вкруг звезд («я» «думальщиков», как бы упершись в земное, стягивает петлю вокруг оказавшихся в его власти звезд - С.Л.) - мне же нужны сейчас, так, на час-два, слова самоумаления, затерянности в просторах. И вот я пришел...» (167-168).
Для рассказчика природа, «смотрящая человека и сквозь него», - нечто чуждое, пугающее и таинственное, поэтому человек лишен возможности созерцать природу, он ею, если использовать образ действия В.В. Розанова «закружен», а следовательно, сам лишается возможности созерцания, как бы теряет антропную способность видеть, превращается сам в объект рассматривания.
Однако, по художественной логике рассказа, чувство затерянности, которого так жаждет герой, может возникнуть не само по себе в ходе загородной прогулки, но лишь благодаря последующему визуальному эксперименту с подаренным стариком предметом - необычайно крупными «белыми бусинами на связанной узлом неточной нити». Существенным для рецепции последующих событий становится монолог старика, обернувшегося к краю оврага. Вот как мотивирует свой дар старик, выслушавший ответ героя на вопрос, чего же он ищет в полях:
«- Так, так понимаю, - старик раздумчиво проживал губами. - Может быть, будет неблагодарно отдарить вас за помощь в розысках затерянностью 18
(разрядка моя - С.Л.). Но если вы этого хотите... Странны, странны люди из-под крыш.
<.. > Вот здесь, обходя поля, я нашел как-то труп: девочка, отроковица. Вкруг шеи - синцы от пальцев: удавлена. В выдавившихся наружу глазах мне удалось увидеть крохотное, остеклелое изображение мучителя. Это, конечно, так, частный случай. Но думали ли вы, думальщик, что все смерти насильственны: пуля в сердце, пальцы вкруг горла, каверны в легких, дряхлость, одеревевившая жилы, - все это разновидности насилия. Все губит, все отнимает жизнь, даже радость. Но максимум насилия - когда убийца: все. Как таковое. Я говорю о людях, заболевших... миром. Да, есть и такая болезнь. И не о ней ли сказал Сократ: “Философствовать значит - умирать”? Впрочем, мой подарок, - старик притронулся к узелку, - объяснит без слов» (168-169).
Как видим, насильственная смерть несчастной отроковицы противопоставлена в речи старика смерти «людей, заболевших миром», для которых «убийца: все». Этот тезис, по мысли старика, должен в полной мере объяснить подарок - объяснить «без слов», поскольку, как скажет в финале рассказа герой, «мало объяснить, нужно увидеть».
Вторая часть рассказа полностью посвящена эксперименту, производимому героем с подарком старика. Герой выясняет, что четки - из глаз мертвецов. Преодолевая чувство брезгливости, рассказчик рассматривает их в офтальмоскоп. Первая и вторая бусины позволяет ему идентифицировать нить бусин как «неточную нить» «глаз умерших метафизиков-элеа-тов» (здесь читатель наверняка припомнит слова Сократа, процитированные «дарителем» чуть ранее: «Философствовать значит - умирать»).
Задержим внимание на последовательных операциях, производимых героем с глазами мертвецов, и кратко их прокомментируем.
Первый глаз «дарит» смотрящему в него покой. Второй - эффект движения (герой вспоминает апорию Зенона Элейского про тщетную погоню Ахилла за черепахой). Третий глаз - «мир обратной перспекти-в ы, мир, в котором мнящееся малым и дальним - огромно и близко, а близкое и большое съеживается, малеет и уползает вдаль» (172; эффект, произведенный последним глазом, позволяет предположить, что он принадлежал Анаксагору, превратившему, по словам Флоренского, «само-жи-вые божества Солнце и Луну в раскаленные камни»17). Для героя внезапно открывается мир небытия, мир, лишенный признаков первичной реальности, которая без труда опознается сознанием человека. Цепочка экспериментов с разными «глазами элеатов», поочередно снимаемыми с нитки и рассматриваемыми в офтальмоскоп, приобретает у Кржижановского отчетливый предметно-зримый (визуально-тактильный) характер и позволяет герою сделать необыкновенное открытие (это главное событие второй части):
«... передо мной был мир обратной перспективы, мир, в котором мнящееся малым и дальним - огромно и близко, а близкое и большое съеживается, малеет и уползает вдаль. И раньше, в снах, в предчувствиях (те. в маргинальных состояниях), я знал об этом мире. Теперь я его видел; опрокинутая перспектива звала меня: войти в нее и вступить на кору далеких иноорбитных планет, жить неопаленным внутри ее солнц, отодвинутых прямыми перспективами э т о г о нашего мира за черные пустоты межпланетья. Я знал, обратная перспектива грозит смертями: бездна, в полушаге от путника, кажется ему далекой и недостижимой. Но погибать в ней легко: ведь тело и самое “я” там, в обратном мире, мнится далеким, чужим и ненужным (172).
Последний глаз, отражая взгляд рассказчика, становясь одновременно частью этого взгляда, впускает в сознание героя (да и читателя тоже!) тот мир, которого он прежде не знал, но к которому (как сейчас он понимает) всегда стремился. Перед читателем разворачивается гротескный процесс освоения за-предельного - телесное превращение чужого в свое уподобляется в рефлексии рассказчика-героя хирургической операции: «Чьи-то тонкие пальцы втиснулись мне в горло, и новый мир, мой мир, разрывая зрачки, острыми скальпелями врезаясь в мозг, входил в меня. Слезы текли навстречу вселяющейся вселенной, встречаясь с ней у выгиба ресниц» (172).
Чужое, таким образом, вдруг опознается, оказывается своим. Если мир природы так и остался для героя миром отчужденным, противостоящим его сознанию, то «черные пустоты межпланетья» разрывая границы привычных представлений героя, трансформируют сознание, делая его принадлежащим «обратному миру», где «тело и самое “я” <...> мнится далеким, чужим и ненужным» (172).
Проведя серию офтальмологических экспериментов с глазами древних философов, рефлектируя свой визионерский опыт, герой «психомиметически» приобщается к трансцендентным способам восприятия реальности, культуре «перцептуальной памяти» - его видение мира теперь неразрывно связано с визуальными способностями древнего философа, визионерская энергия которого передается герою.
Таким образом, сюжет о встрече со стариком, подарившим четки, и об экспериментах с глазами умерших метафизиков может быть интерпретирован как сюжет о смерти «думальщика» и рождении философа. То, за чем герой отправляется в начале рассказа в поля («чувство малости и заброшенности»), он наконец-то обретает в финале. Выпадение из окружающего мира совмещено здесь с переходом героя в мир инобытия. Видимо, не случайно, Флоренский отмечал, что обратная перспектива у древних народов (например, у египтян) означала «освобождение от перспективы или изначальное непризнание ее власти <...> ради религиозной объективности и сверхличной метафизичности»™ . (Ср. с другими художественными подходами к моделированию «запредельного» пространства и способами его рецепции в русской прозе серебряного века19).
Сюжет рассказа Кржижановского «Четки» предлагает читателю вслед за героем совершить захватывающее воображение и крайне опасное путешествие в запредельный мир обратной перспективы, где видимое обновленным зрением («взглядом небытия») скрывает в себе пустоту, умиротворение, смерть («от туманных галактик до последнего дрязга» герой теперь видит лишь «безлучные, закаменевшие, стиснутые в крохотные точки - бессильные миры», пленные человеческими руками и превращенными в «орбиты, толкаемые грязным ногтем») и, одновременно, приобщает к свободной стихии «всепоглащающего зрения» (Мерло-Понти), философской по своей природе и, как следует из финала рассказа, недо- ступной обыденному сознанию. Начальная «недостача» жизни, таким образом, ликвидируется избытком инобытия: «Теперь я веду жизнь сидня. Незачем ходить в поля за просторами: просторы всюду - вкруг меня и во мне. Каждая пылинка значительна, как солнце <...> нужны были века, чтобы понять эти крохотные пятнышки. Помыслить их как миры. Но понять - мало. Надо увидеть» (174).
-
1 Топоров В.Н. Пространство и текст // Текст: семантика и структура. М., 1983. С. 284.
-
2 Фарино Е. Введение в литературоведение. СПб., 2004. С. 275.
-
3 Берковский Н. Романтизм в Германии. СПб., 2001. С. 459.
-
4 Тодоров Ц. Введение в фантастическую литературу. М., 1997. С. 93.
-
5 Тодоров Ц. Введение в фантастическую литературу. М., 1997. С. 91.
-
6 Тодоров Ц. Введение в фантастическую литературу. М., 1997. С. 92.
-
7 Тодоров Ц. Введение в фантастическую литературу. М., 1997. С. 92.
-
8 Тодоров Ц. Введение в фантастическую литературу. М., 1997. С. 92.
-
9 Ямпольский М. Наблюдатель. М., 2000. С. 276.
-
10 Топоров В.Н. «Минус»-пространство Сигизмунда Кржижановского // Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического. М., 1995. С. 493.
-
11 Топоров В.Н. «Минус»-пространство Сигизмунда Кржижановского // Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического. М., 1995. С. 493.
-
12 Топоров В.Н. «Минус»-пространство Сигизмунда Кржижановского // Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического. М., 1995. С. 500.
-
13 Бирюкова Е.Е. «Vade mecum» Сигизмунда Кржижановского и хронотоп порога // Поэтика рамы и порога: функциональные формы границы в художественных языках. Граница и опыт границы в художественном языке. Вып. 4. Самара, 2006. С. 443-448.
-
14 Флоренский П.А. Анализ пространственности и времени в художественноизобразительных произведениях. М., 1993. С. 88-89.
-
15 Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. СПб., 1999. С. 249.
-
16 Кржижановский С. Четки // Кржижановский С. Собрание сочинений. Т. 1. СПб., 2001. С. 164.
-
17 Флоренский П.А. Обратная перспектива // Флоренский П.А. У водоразделов мысли. М., 1990. С. 50.
-
18 Флоренский П.А. Обратная перспектива // Флоренский П.А. У водоразделов мысли. М., 1990. С. 50
-
19 Петрова НА. Структура пространства в «Фанданго» А. Грина // Алфавит: строение повествовательного текста. Синтагматика. Парадигматика. Смоленск, 2004.
Список литературы Визуальные аспекты небытия в гротескно-фантастическом произведении
- Топоров В.Н. Пространство и текст//Текст: семантика и структура. М., 1983. С. 284
- Фарино Е. Введение в литературоведение. СПб., 2004. С. 275
- Берковский Н. Романтизм в Германии. СПб., 2001. С. 459
- Тодоров Ц. Введение в фантастическую литературу. М., 1997. С. 93
- Тодоров Ц. Введение в фантастическую литературу. М., 1997. С. 91
- Тодоров Ц. Введение в фантастическую литературу. М., 1997. С. 92
- Тодоров Ц. Введение в фантастическую литературу. М., 1997. С. 92
- Тодоров Ц. Введение в фантастическую литературу. М., 1997. С. 92
- Ямпольский М. Наблюдатель. М., 2000. С. 276
- Топоров В.Н. «Минус»-пространство Сигизмунда Кржижановского//Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического. М., 1995. С. 493
- Топоров В.Н. «Минус»-пространство Сигизмунда Кржижановского//Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического. М., 1995. С. 493
- Топоров В.Н. «Минус»-пространство Сигизмунда Кржижановского//Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического. М., 1995. С. 500
- Бирюкова Е.Е. «Vade mecum» Сигизмунда Кржижановского и хронотоп порога//Поэтика рамы и порога: функциональные формы границы в художественных языках. Граница и опыт границы в художественном языке. Вып. 4. Самара, 2006. С. 443-448
- Флоренский П.А. Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных произведениях. М., 1993. С. 88-89
- Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. СПб., 1999. С. 249
- Кржижановский С. Четки//Кржижановский С. Собрание сочинений. Т. 1. СПб., 2001. С. 164
- Флоренский П.А. Обратная перспектива//Флоренский П.А. У водоразделов мысли. М., 1990. С. 50
- Флоренский П.А. Обратная перспектива//Флоренский П.А. У водоразделов мысли. М., 1990. С. 50
- Петрова Н.А. Структура пространства в «Фанданго» А. Грина//Алфавит: cтроение повествовательного текста. Синтагматика. Парадигматика. Смоленск, 2004