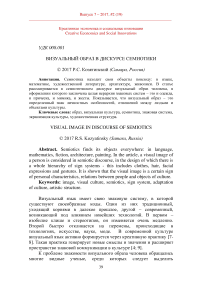Визуальный образ в дискурсе семиотики
Автор: Козятинский Роман Сергеевич
Журнал: Креативная экономика и социальные инновации @cesi-journal
Статья в выпуске: 2 (19), 2017 года.
Бесплатный доступ
Семиотика находит свои объекты повсюду: в языке, математике, художественной литературе, архитектуре, живописи. В статье рассматривается в семиотическом дискурсе визуальный образ человека, в оформлении которого заключена целая иерархия знаковых систем - это и одежда, и прическа, и мимика, и жесты. Показывается, что визуальный образ - это определенный знак личностных особенностей, отношений между людьми и объектами культуры.
Образ, визуальная культура, семиотика, знаковая система, экранизация культуры, художественная структура
Короткий адрес: https://sciup.org/14239109
IDR: 14239109 | УДК: 008.001
Текст научной статьи Визуальный образ в дискурсе семиотики
Визуальный язык имеет свою знаковую систему, в которой существуют своеобразные коды. Один из них традиционный, уходящий корнями в далекое прошлое, другой – современный, возникающий под влиянием новейших технологий. В первом – изобилие клише и стереотипов, он изменяется очень медленно. Второй быстро откликается на перемены, происходящие в технологиях, искусстве, науке, моде. В современной культуре визуальный язык активно формируется через креативную практику [78]. Такая практика генерирует новые смыслы и значения и расширяет пространство знаковой коммуникации в культуре [4; 9].
К проблеме знаковости визуального образа человека обращались многие видные ученые, среди которых следует выделить
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations исследования Ю.М. Лотмана, Р. Барта, В.В. Савчука, У. Эко и др. [1-3; 5-6;10-19].
Интересен в этом плане образ Ч. Чаплина. Анализируя фильмы с его участием, Ю. Лотман утверждает, что в их основе лежит устойчивый, известный зрителю заранее и ожидаемый типмаска «Чарли». Константный грим и костюм, константные приемы актерской игры, типовые сюжетные ситуации и отнесенность к некоторому единому человеческому типу в действительности позволяют говорить о единстве этого образа, который может рассматриваться в качестве целостной художественной структуры. Однако «единство образа не отменяет, а подразумевает его двойственность» [11]. Уже костюм Чарли двоится: верх его составляет элегантный котелок, манишка и бабочка, а низ – спадающие брюки и чудовищные, не по росту, ботинки.
Сочетание в костюме крайней элегантности и предельной оборванности, опущенности продолжалось и в жестах и мимике Чарли. Элегантные, безупречно светские движения, которыми Чарли приподнимает котелок или поправляет бабочку, сочетаются с жестами и мимикой бродяги Чарли (как бы два человека). И этим достигается неожиданный эффект. Казалось бы, перед нами – устойчивая маска, стереотипные ситуации, условные жесты. Различные закономерности, перекрещиваясь, создают необходимую неожиданность. Именно в наименее подходящих ситуациях Чарли ведет себя как безупречный джентльмен. Но как только контекст требует норм элегантного поведения, Чарли оказывается маленьким бродягой в чужом костюме.
Так, сюжет классической «Золотой лихорадки» складывается из двух половин. В одной действует Чарли-маленький бродяга, в другой – Чарли – внезапно разбогатевший миллионер. Чарли-бродяга наделен безупречными манерами светского человека. Вершиной является сцена, когда искатели золота, голодающие зимой в горах, варят сапог. Разделывая эту чудовищную пищу с помощью ножа и вилки, обсасывая гвоздики, как косточки, съедая шнурки, как спагетти, Чарли демонстрирует безупречность манер. Однако стоит ему сделаться миллионером, как перед нами оказывается человек в роскошной шубе или смокинге, который чешется, набивает рот и чавкает, как бродяга.
Смысл такой игры в том, что герой в обоих случаях предстает перед нами как переодетый. В одном – это светский человек, переодетый бродягой, в другом – бродяга, переодетый человеком из высшего общества. Каждая из сущностей переодетого диктует свои 40
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations нормы поведения и свой тип ожидания со стороны зрителей. Соотношение «герой – костюм» порождает комические ситуации, но может быть и источником иных значений. Костюм в кинематографе часто превращается в знак определенной эпохи, а не в воспроизведение реальной одежды какого-либо исторического периода.
В целом, образ человека на экране предельно приближен к жизненному, сознательно ориентирован на удаление от театральности и искусственности. И, одновременно, он предельно – значительно более чем на сцене и в изобразительных искусствах – семиотичен, насыщен вторичными значениями, предстает перед нами как знак или цепь знаков, несущих сложную систему дополнительных смыслов.
В этом плане интересны и исследования другого крупнейшего зарубежного семиотика – Ролана Барта. В середине 1950-х гг. Р. Барт написал серию очерков о «всеобщей» современной мифологизации. «Мифологии» представляют собой блестящий анализ современной массовой культуры как знаковой системы.
Как и Ю. М. Лотман, французский семиотик заостряет внимание читателей на языке кинематографа. Так, анализируя фильм Джозефа Манкевича «Юлий Цезарь», Р. Барт обнаруживает в нем целую систему визуальных образов. В первую очередь это касается изменений во внешности актеров, сыгравших в фильме римлян: их всех объединяет наличие челки. «У кого-то она кудрявая, у кого-то гладкая, у кого-то хохолком, у кого-то прилизанная, но у всех – аккуратно причесанная» [2]. Функция такого незначительного изменения внешности актеров проста – челка придает «римскость», то есть обозначает принадлежность к конкретной исторической эпохе: «Начесанная на лоб прядь волос подав ляет своей очевидностью – не остается никакого сомнения, что мы в Древнем Риме» [2].
Еще один знак, действующий в «Юлии Цезаре»: все лица здесь беспрерывно потеют. Подобно римской челке пот является знаком. Но если челка придает героям правдоподобность, то пот, по мнению Р. Барта, – знак нравственности. «Предполагается, что мы присутствуем здесь при страшных терзаниях добродетели, то есть при трагедии, что и призвано передавать собой потение. Римский народ, потрясенный гибелью Цезаря, а затем красноречием Марка Антония, потеет, экономно выражая в одном-единственном знаке силу своих переживаний и свою сословную неотесанность. Но постоянно обливаются потом и добродетельные мужи – Брут, Кассий, Каска, свидетельствуя тем самым о страшных физиологических муках, в 41
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations которых их добродетель вот-вот разродится преступлением. Потеть – значит думать», – утверждает Р. Барт [2]. Во всем фильме один лишь Цезарь не потеет, его лицо остается гладким, расслабленнонепроницаемым. И вполне понятно, что Цезарь, объект преступления, сохраняет сухое лицо, – ведь он не знает, не думает, и его кожа должна сохранять зернистую четкость, гладкую обособленность вещественного доказательства.
Знак в данном случае отличается двойственностью: оставаясь на поверхности, он, тем не менее, не отказывается и от претензий на глубину. Он желает дать нечто понять, но одновременно выдает себя за нечто спонтанное, он объявляет себя одновременно преднамеренным и необоримым, искусственным и естественным, рукотворным и обретенным.
Наряду с анализом кинематографических лент, Р. Барт обращается к анализу визуального образа своих современников. В этом плане интересен образ Г. Гарбо. Личность далеко не ординарная, она принадлежит той странице истории кино, когда показ человеческого лица воспринимался публикой не иначе, как «непостижимое и неотвязное созерцание плоти» [15]. Такое восприятие диктовалось, в первую очередь, зеркальным соотношением лица и чувства: живая натура порождает некие мистические чувства. Г. Гарбо – одна из самых романтических и одновременно загадочных фигур в мировом кинематографе. Эта северная женщина с классическими чертами лица и застенчивой отчужденностью характера, поражавшая на экране силой своей страсти, стала символом той самой женственности, которую мужчинам не дано постичь.
Р. Барт отмечает важную особенность философии образа Гарбо – ее таинственность, драматизм и «фатальность». Ее пространство было пространством чистой эротики, в котором секс, вообще любые похождения тела были невозможны и не нужны. В своих знаменитых экранных поцелуях она держала лицо мужчины как чашу, из которой пила. Целуясь, она не касалась лица – прикосновение разрушило бы зыбкий эротический идеал. Гарбо была «актрисой лица», завораживала, вводила фантазию в состояние комы. Она играла в пространстве Запретного, воплощая чистую эротику, ее недоступную разгадке тайну. Во многом это удавалось ей, по мнению Барта, удачно найденным образом – «лицоархетип»: «Своим зрителям Гарбо являла как бы платоновскую идею человеческого существа, и этим
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations объясняется, что ее лицо – почти бесполое, хотя и без всякой двусмысленности» [2].
Когда на смену «немого кино» пришло кино звуковое, многие ждали «падения» Гарбо, но этого не произошло. Барт объясняет это тем, что актриса обладала не просто лицом-маской, а «сущностью», которая вступает в «тематическую перекличку» сущного и бренного: «Лицо Гарбо знаменует собой тот неустойчивый миг, когда кино из эссенциальной красоты вот-вот извлечет красоту экзистенциальную, когда архетипичность вот-вот уступит место обаянию живых и смертных лиц, когда ясность телесных сущностей вот-вот сменится лирикой женской души» [2]. Философ находит уникальную характеристику образа Гарбо, называя ее лицо «концептуальным», лицом-«идеей».
Таким образом, рассматривая различные явления повседневной культуры, Р. Барт приходит к выводу, что современная масс-культура в цивилизованном обществе нисколько не менее мифологична, чем первобытная культура. Суть мифа остается та же – обращение продуктов культуры в «природные вещи». Миф питает сознание людей, живущих в мире вечных ценностей.
В современном мире следует обратить внимание и на рекламу как особый визуальный знак, который становится объектом семиотического изучения. Реклама оказывает влияние на поведение людей, формируя определенный образ жизни. С точки зрения семиотики, рекламный текст воссоздает свой вариант мира, который не повторяет характеристики мира реального, а усиливает их. Значимость каждого рекламируемого объекта в этом символическом мире утрированно возрастает.
Реклама рассчитана на восприятие, где слиты воедино рациональное осознание информации о товаре, эмоциональная реакция на него и немедленный посыл к действию. В этом смысле интересно высказывание У. Эко: «Реклама не объясня ет, почему надо вести себя так, а не этак, но всего лишь “выбрасывает флаг”, совершая действие, на которое полагается отвечать одним-единственным способом» [16], то есть – покупать.
-
У. Эко вскрывает риторические коды рекламного дискурса, исследует словесные и визуальные составляющие рекламного проекта, их кодификационные уровни. Он выдвигает тезис, что реклама как явление коммуникации представляет собой семиотическое, или знаковое образование. Ведь реклама использует формы существующих знаков, наделяя их новым содержанием.
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations
В качестве конкретного примера использования визуального образа человека У. Эко приводит рекламу мыла Камей. На ней мужчина и женщина изучают картины в лондонском храме антиквариата Сотби. Мужчина смотрит на женщину, которая, почувствовав этот взгляд, отводит глаза от каталога. Это изобразительный уровень. Что касается коннотаций, то здесь следует целый набор сообщений. Женщина, согласно общепринятым установкам, красива, по всей видимости, принадлежит нордическому типу, что подчеркивается английским каталогом у нее в руках. Наличие каталога как знака престижа помогает также судить о богатстве и образованности данной женщины. По мнению У. Эко – это леди «с хорошим вкусом и если не англичанка, то из тех, кто путешествует в люксе» [16].
Что касается мужчины, то его визуальный образ говорит о мужественности и уверенности; «поскольку он не похож на англичанина, то, скорее всего, это турист, богатый, со вкусом, образованный». Также У. Эко считает, что мужчина богаче и образованнее женщины, потому что ей нужен каталог, а он обходится без такового: «Это может быть эксперт, а может быть покупатель, в любом случае сема означает престижность» [16]. Композиция кадра, обязанная своим построением урокам кинематографии, изображает не просто мужчину, который смотрит на женщину, чувствующую на себе его взгляд: мы воспринимаем изображение как отдельную
«фотограмму, изъятую из цепи фотограмм, полный просмотр которой показал бы нам, что женщина, почувствовав на себе взгляд, пытается украдкой выяснить, кто же на нее смотрит» [16].
-
У. Эко отмечает: «Все это придает сцене легкую эротическую окраску. Внимание, с которым более пожилой персонаж рассматривает картину, контрастирует с рассеянностью молодого человека, вызванной именно присутствием женщины, что еще более подчеркивает устанавливающуюся между ними связь. Оба обаятельны, но поскольку именно женщина привлекла внимание мужчины, чары по преимуществу исходят от нее. Поскольку уточняющее смысл изображения словесное сообщение утверждает, что источником очарования является запах мыла Камей, то иконическая сема обогащает словесный ряд при помощи двойной метонимии с функцией отождествления: “кусок туалетного мыла + флакон духов” означает “кусок мыла = флакону духов”» [16].
Таким образом, можно предположить, что оба персонажа становятся примерами для подражания, с ними стремятся
Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations отождествиться, на них проецируют свои желания. Потому что они воплощают собой то, что общественное мнение считает престижным и образцовым, а именно: красоту, вкус, космополитизм и т.д. Этот набор предположений трудно опровергнуть, когда смотришь на реальное изображение. Но одновременно он демонстрирует, что область коннотаций не несёт те же определенности, что и область значений.
Список литературы Визуальный образ в дискурсе семиотики
- Агеев В. Семиотика. М.: Весь мир, 2002. 256 с.
- Барт Р. Мифологии. М.: Издательство им. Сабашниковых, 2000. 320 с.
- Белоусова Ю. Генезис образа и его функционирование в медиапространстве. СПб.: Алетейя, 2015. 130 с.
- Бирюков А.В., Ионесов В.И. Креативная коммуникация и управление связями с общественностью в эпоху глобальных преобразований и социальной турбулентности//Креативная экономика и социальные инновации. 2011. № 1. С. 46-49.
- Бородай Ю.М. Эротика -Смерть -Табу: Трагедия человеческого сознания. М.: Русское феноменологическое общество: Гнозис. 1996. 243 с.
- Инишев И. Феноменология как теория образа//Логос. 2010. № 5. С. 196-204.
- Ионесов В.И. О креативности действия во взаимоотношениях экономики и культуры//Креативная экономика и социальные инновации. 2016. Т.6. № 4 (17). С. 47-56
- Ионесов В.И. Креативные ресурсы управления изменениями//Креативная экономика и социальные инновации. 2011. № 1. С. 8-9.
- Ионесов В.И., Куруленко Э.А. Культура, миротворчество и социальное подвижничество в региональных проектных практиках//Культурологический журнал. 2013. № 1. С. 15-24.
- Круткин В.Л. Визуальные системы как медиа и пространство фотографического опыта//Вест. Удмуртского университета. 2007. № 3. С. 13-28
- Лотман Ю.М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Таллинн: Ээсти Раамат, 1973. 63 с.
- Лотман Ю., Цивьян Ю. Диалог с экраном. Таллин: «Александра», 1994. 214 с.
- Петровская E.B. Теория образа. M.: РГГУ, 2010. 281 с.
- Савчук В.В. Медиафилософия. Приступ реальности. СПб.: Издательство РХГА. 2013.
- Черкашина Л.А. Семиотика визуального образа человека в научной мысли ХХ в.//Ярославский педагогический вестник. 2011. № 3. С. 282-285
- Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. М.: ТОО ТК «Петрополис», 1998. 432 с.
- Эко У. Поиски совершенного языка в европейской культуре/пер. с итал. А. Миролюбовой (Серия «Становление Европы»). М.: Александрия, 2007. 430 с.
- Эко У. Роль читателя. Исследования по семиотике текста/пер. с англ. и итал. С. Серебряного. СПб.: Симпозиум, 2007. 502 с.
- Эко У. Сотвори себе врага. И другие тексты по случаю/пер. Я. Арьковой, М. Визеля, Е. Степанцовой. М.: АСТ: Corpus, 2014. 352 с.