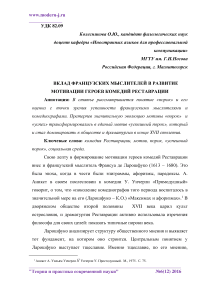Вклад французских мыслителей в развитие мотивации героев комедий реставрации
Автор: Колесникова О.Ю.
Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j
Статья в выпуске: 6-1 (12), 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается понятие «порок» и его оценка с точки зрения успешности французскими мыслителями и комедиографами. Претерпев значительную эволюцию мотивы «порок» и «успех» трансформировались в единый мотив «успешный порок», который и стал доминировать в обществе и драматургии в конце XVII столетия.
Комедия реставрации, мотив, порок, "успешный порок", социальная среда
Короткий адрес: https://sciup.org/140269226
IDR: 140269226
Текст научной статьи Вклад французских мыслителей в развитие мотивации героев комедий реставрации
Свою лепту в формирование мотивации героев комедий Реставрации внес и французский мыслитель Франсуа де Ларошфуко (1613 – 1680). Это была эпоха, когда в чести были эпиграммы, афоризмы, парадоксы. А. Аникст в своем послесловии к комедии У. Уичерли «Прямодушный» говорит, о том, что «поколение комедиографов того периода воспиталось в значительной мере на его (Ларошфуко – К.О.) «Максимах и афоризмах».1 В дворянском обществе второй половины XVII века царил культ острословия, и драматургия Реставрации активно использовала изречения философа для своих целей: показать типичные пороки века.
Ларошфуко анализирует структуру общественного мнения и выявляет тот фундамент, на котором оно строится. Центральным понятием у Ларошфуко выступает тщеславие. Именно тщеславие, по его мнению, предопределяет стремление человека быть добродетельным: «Добродетель не достигла бы таких высот, если бы ей в пути не помогало тщеславие…».2 Причинами же слыть добродетельным выступают: «Жажда славы, страх позора, намерение составить состояние, желание сделать нашу жизнь удобной и приятной…». (С. 34) Однако добродетель тесно связана не только с тщеславием, но и с остальными пороками, которые входят в ее состав: «…как яды в состав целебных снадобий. Благоразумие их соединяет, смягчает и успешно использует против жизненных невзгод». (С. 56) Для того, чтобы успешно преодолевать жизненные препятствия, людям необходимо найти грань между собственной выгодой и формальным соблюдением правил, установленных в обществе, так как «желание выгоды приводит в действие все добродетели и пороки». Этой гранью и является «общежительность», термин, которым Ларошфуко называет «дружбу, взаимное уважение интересов и обмен услугами» (С. 58), однако, «это не более чем коммерция, в которой себялюбие непременно надеется что-нибудь выгадать». (С. 78)
Философ показывает, что добродетель является формой человеческой сущности, вроде одежды, которая необходима цивилизованному человеку для соблюдения приличий: «Свет чаще вознаграждает видимость достоинств, нежели сами достоинства». (С. 92)
Моральные нормы, достоинства и недостатки, добродетели и пороки, согласно Ларошфуко, определяются общественным мнением: «Свет обычно зовет добродетелью некое фантомное порождение наших страстей, которому присваивается доброе имя, чтобы можно было безнаказанно творить все, что пожелаешь». (С. 112) Именно безнаказанность приводит к тому, что порочные действия не только имеют благополучный исход, но и не вызывают порицания со стороны света: «Большинство людей судит о человеке лишь по тому, насколько он в моде и каково его состояние» (С.113). Какими же путями нажито это состояние, и благодаря чему этот человек «в моде» мало кого интересовало. Более того, чем грандиознее и нахальнее была провернутая афера, тем большее уважение получают люди, ее провернувшие: «Есть преступления, которые утрачивают свою преступность и даже обретают славу из-за огласки, численности и чрезмерности. Именно поэтому обкрадывать государство – проявлять расторопность, а несправедливо захватывать чужие земли – делать завоевания» (С. 116). Все это не может не заставить задуматься остальных: а настолько ли уж порочны эти люди, если не только общественное мнение, но и сама фортуна на их стороне? «Удачливые люди неисправимы: они убеждены, что правда на их стороне, меж тем как фортуна благоприятствует их не лучшему образу действий» (С. 124).
Таким образом, уверенность в своих действиях, удачно завершившихся, негласное одобрение обществом неправедных дел, выраженное в безнаказанности, и приводят к тому, что успешный порок становится образцом для подражания: «Нет ничего заразительней примера, самые благие и самые дурные наши поступки всегда вызывают подражание. Добрым делам мы подражаем из чувства соревновательности, дурным – по природной злобе, которую держал в плену стыд, но высвободил пример» (С. 127).
В своей книге Ларошфуко отразил скептический взгляд на природу человека, его пренебрежение правилами морали, не соответствующим реальному поведению людей. «Максимы» были посвящены анализу человеческих поступков и их мотивов. Ларошфуко пришел к выводу, что привычная схема оценок "добродетель - порок" слишком упрощает действительность. Значительная часть афоризмов демонстрировала читателям истинную подоплеку внешне вполне добродетельных поступков. В комедиях этого времени человеческая природа воспринимается достаточно цинично как взаимосплетение животного эгоизма и чувственности, не ограниченных ни гражданскими, ни государственными, ни религиозными препонами.
Соотечественник Ларошфуко Ж. Б. Мольер (1622 – 1673) в своих комедиях показал воплощение тех пороков, о которых рассуждал философ: как под видом самых высоких идеалов скрываются самые низкие вожделения, осуществляются корыстные цели, и как жестокий эгоизм цинично проявляет себя в «сливках» общества – аристократах.
Одноименный персонаж комедии Мольера «Дон Жуан» (1665) открыто и цинично пренебрегает всеми нормами человеческой морали и надевает на себя маску ханжества, когда нужно избежать ответственности за свои преступления. Дон Жуан оправдывает свое поведение знатным происхождением, именно оно дает ему право не считаться с законами морали, созданными для простолюдинов: он гонит от себя надоевших ему любовниц, нагло рекомендует своему престарелому родителю поскорее отправиться на тот свет, беззастенчиво отказывается платить долги. Он не признает никаких законов, не страшиться церковных угроз, верит только в реальность бытия, ограниченного человеческим существованием.
В образе Тартюфа Мольер показал, что под видом самых высоких идеалов скрываются самые низкие вожделения и осуществляются грубо корыстные цели. Был обличен лжепророк, тайный агент «Общества святых даров», рьяный стяжатель, способный дурачить людей под прикрытием идей христианства и патриотизма:
Круг совести, когда становится он тесным,
Расширить можем мы: ведь для грехов любых
Есть оправдание в намереньях благих. (VI, 5)3
Тартюф – чревоугодник и сладколюбец, владеющий приемами церковной казуистики, добивается таким способом своих корыстных целей и выпутывается из самых затруднительных положений. На примере Тартюфа Мольер обличал механизм приспособленчества, прикрывающегося «благими намерениями».
В 1668 году Мольер создает «Скупого», центральным образом комедии становится скряга Гарпагон (являющийся продолжением образа Скупого римского комедиографа Плавта). Он одержим деньгами, чья власть больше не нуждалась в прикрывающих масках и не считалась с моралью, открыто и нагло господствовала над обществом. Теперь не человек распоряжается деньгами, а деньги управляют человеком, полностью подчиняя его себе.
Мольер продолжает обличать новых хозяев жизни – буржуа в «Мещанине во дворянстве» (1669) и «Мнимом больном». Самодовольных буржуа, помешавшихся на титуле (Журден) и на ценности своего здоровья (Арган), теряют разум и становятся «дойными коровами» для тех, кто потакает их причудам: у мещанина – одворяниться, а у здоровяка – излечиться.
Таким образом, сопоставив концепции философов и драматургов, можно сказать, что, по сути, разделенные временной дистанцией авторы говорят в унисон: изменения в характере человека происходят вслед за изменением экономической обстановки. Определяющую роль в жизни человека играет общество, точнее моральные нормы, им устанавливаемые. Именно общественное мнение побуждает человека, вне зависимости от его качеств, действовать в установленных обществом рамках. И если в обществе такие пороки, как себялюбие, тщеславие, алчность, наглость считаются признаком не только хорошего тона, но и быстрым и верным способом для достижения целей, то человек, стремящийся преуспеть в подобном обществе, неминуемо сталкивается с проблемой выбора: сохранить видимость нравственности и стремиться к своей цели любыми путями, либо следовать формально установленным добродетелям и быть невостребованным обществом. Не удивительно, что человек решает -гораздо проще казаться добродетельным, чем быть им. И, как правило, следование моральным установкам не отражает истинной добродетели. Мораль не основывается на истине, ибо общественное мнение чаще всего ошибочно. Оно судит о человеке в свете его успешности на любом поприще. Философы признают, что если человек настойчив в достижении своей цели, напорист в выборе путей к ее осуществлению, то фортуна способствует ему во всех его делах, пусть даже неблаговидных. Драматурги же в большинстве своем обличают пороки, присущие современности и наказывают свих героев за неблаговидные деяния, за их опустошенность, за потерю самой потребности опираться на традиционные моральные установки предков, за снятие с себя всякой ответственности перед обществом, за полное равнодушие к людям, и стремление любой ценой добиться желаемого. Ближе к XVII веку порок оказывается не только ненаказуем, но еще и вознагражден за свою дерзость и за грандиозность предпринятого дела, он становится примером для подражания. Сама действительность, ее социальное содержание обнаруживает в своих конфликтах источник драматических столкновений, через «исторические изменения высвечивает истинную сущность, и реальным ходом вещей способствует отрезвлению от старых иллюзий»4, таким образом, есть смысл говорить, что изменение восприятия порока обществом обусловлено не только природными качествами человека, но и социальной средой.
Список литературы Вклад французских мыслителей в развитие мотивации героев комедий реставрации
- Гусейнов, А.А. Этика: словарь изречений и афоризмов / А.А Гусейнов. - М.: Высшая школа, 1995. - 430 с.
- Аристотель. Об искусстве поэзии. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1957.- 184 с.
- Аристофан. Лягушки. (пер. под ред Шульца Ю.) // Античная комедия. РостовнаДону, 1997.
- Аристофан. Комедии. / Аристофан; пер. К. Полонской // Собр. соч.: в 2 т. - М.: Искусство, 1954. - Т. 1. - 449.
- Этика Аристотеля / с прил. "Очерка истории греческой этики до Аристотеля" Э.Радлова. СПб: «Обществ. Польза», 1908 г. 207 с
- Аристотель. Никомахова этика / Аристотель. - М.: Наука, 2003. - 430 с.
- Фрейденберг, О.М. Поэтика сюжета и жанра. / О.М. Фрейденберг. - М., 1997.
- Менандр. Герод. Комедии. Мимиамбы. Античная драматургия. Греция. М. Искусство 1984г. 296 с.
- Плавт. Избранные комедии. / Плавт; пер. А. Артюшкова - М.: Художественная литература, 1967. - 661 с.