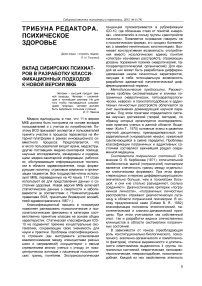Вклад сибирских психиатров в разработку классификационных подходов к новой версии МКБ
Автор: Семке В.Я.
Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin
Рубрика: Трибуна редактора. Психическое здоровье
Статья в выпуске: 5 (74), 2012 года.
Бесплатный доступ
ID: 14295598 Короткий адрес: https://sciup.org/14295598
Текст ред. заметки Вклад сибирских психиатров в разработку классификационных подходов к новой версии МКБ
Человек – высший продукт земной природы. Человек – сложнейшая и тончайшая система. Но для того чтобы наслаждаться сокровищами природы, человек должен быть здоровым, сильным и умным.
И. П. Павлов
Медики единодушны в том, что 11-я версия МКБ должна быть построена на основе вкладов пользователей и с учетом их потребностей. Поэтому ВОЗ призывает экспертов и пользователей принять участие в процессе пересмотра на Ин-тернет-платформе в рамках инновационного совместного процесса. Предполагается, что в число пользователей входят врачи, медсестры, другие поставщики медико-санитарной помощи, научные исследователи, менеджеры и кодировщики медико-санитарной информации, работники, обслуживающие информационные технологии в области здравоохранения, лица, формирующие политику, страховые компании и организации пациентов. Все государства-члены используют МКБ, переведенную на 43 языка. 117 стран используют её для представления данных о состоянии здоровья. Новая версия МКБ включает статистические данные о смертности и заболеваемости (в соответствии с Номенклатурными правилами ВОЗ, принятыми Всемирной ассамблеей здравоохранения в 1967 г.).
Классификационный процесс в психиатрии позволяет ранжировать психологические и психопатологические феномены в категории соответственно принятым классам на основе общих характеристик. Статическая классификация ICD-10 не подменяет прежние концептуальные систематики, сохраняющие свою значимость для науки и практики. Проблемы классификационного строения (как инструмента установления взаимопонимания между клиницистами разных школ и направлений) сосуществуют с явным стремлением многих ученых к отходу от нозо-центрических взглядов к лишенным нозологических границ понятиям. Экстранозологическая тенденция просматривается в рубрификации ICD-10, где обозначен отказ от понятий «невроза», «психопатий» в пользу группы «расстройств личности». Появляется основание говорить не о нозологических формах, а о «родах» болезней, как о семейно-генетических констелляциях. Возникает конструктивная возможность употребления вместо нозологических единиц понятия «спектра» изучаемых расстройств, отражающих уровень поражения психики (невротический, па-тохарактерологический, органический). Для каждой из них может быть разработана дифференцированная шкала личностных характеристик, несущая в себе потенциальную возможность разработки адекватной патогенетической дифференцированной терапии.
Методологические предпосылки . Рассмотрение проблем систематизации и клиники пограничных (невротических, патохарактерологи-ческих, неврозо- и психопатоподобных) и аддик-тивных личностных расстройств облегчается за счет вычленения доминирующей научной парадигмы. Под этим понятием определяется система научных достижений (теорий, методов), по образцу которых организуется исследовательская практика ученых в данной области. Выделяют (Kuhn T., 1970) основные этапы в развитии научной дисциплины: препарадигмальный, па-радигмальный («нормальная наука»), кризисный (заключающийся в смене парадигм). Проблемы классификации пограничных и аддиктивных состояний составляют важнейший раздел современной медицины.
Систематика пограничных состояний . По мнению О. В. Кербикова (1971), отличительной особенностью малой (пограничной) психиатрии является «нечеткость границ между отдельными клиническими формами». При этом форм «переходных и нерезко дифференцирующихся» значительно больше, чем в психиатрии большой, и они «не столько разъединяют, сколько соединяют». Диагностические критерии «пограничной личности», «пограничных личностных расстройств» отражают диагностическую путаницу в области пограничной психиатрии. В основу предложенной нами (Семке В. Я., 1982) классификации положены этиологический, патогенетический и клинико-динамический принципы. При этом учитывался как собственный опыт, так и разработки видных отечественных клиницистов в области систематики пограничных состояний.
В зависимости от генеза (преобладающая роль конституционально-биологического, психогенного, экзогенно-органического и соматогенного факторов), степени выраженности и длительности симптоматики выделяются 4 группы пограничных состояний: невротическая, патохарак-терологическая, неврозоподобная, психопатоподобная. Каждой из них свойственна этапность формирования клинической симптоматики: начальная (преневротическая, препсихопатиче-ская) стадия; этап структурирования; период относительной стабилизации личностной патологии (формирование невротического, патохарак-терологического, патологического развития личности).
Познание механизмов становления пограничных психических расстройств каждого из выделенных регистров подводит нас к рассмотрению сложной проблемы классификации промежуточных форм между психическим здоровьем и болезнью. На практике речь идет о наличии двух границ, зачастую оказывающихся неустойчивыми и неопределенными. Существуют два типа предболезненных состояний – и с т и н н ы й (когда диагноз опережает заболевание) и условный (когда имеются выраженные патологические изменения, обнаруживаемые с помощью методов дополнительного обследования). Интерес к зоне предболезненных состояний в области пограничной психиатрии выдвигает в этиопатогенетическом плане задачу изучения перехода «от нормальной поведенческой эмоции к эмоции фиксированной, патологической» (Анохин П. К., 1978). Мы предлагаем определять эти проявления как аномальные (недифференцированные в своем содержании) личностные реакции (АЛР), клиническое содержание которых отражает ранний, «донозологический» этап развития заболевания. Они являются нозологически неспецифичными, поскольку могут трансформироваться в невротические (неврозоподобные) и психопатические (психопатоподобные) состояния. В целом АЛР становятся основной причиной социальной дезадаптации.
Механизмы аддиктивного поведения . Проявляемая на современном этапе науковедения тенденция к всеобъемлющей систематизации и упорядочению знаний в области психиатрической науки, своеобразная «любовь к классификациям» в меньшей степени затронули сферу аддиктивных состояний. Изучением аддикци й (от англ. addiction – зависимость) занимаются несколько наук, такие как психология, социология, медицина; на стыке этих дисциплин сформировалась новая наука о зависимостях – ад-диктология. Она охватывает наркотическую ад-дикцию (включая токсикоманию), алкогольную, табачную, компьютерные, игровые, пищевые, любовные и сексуальные, некоторые «респектабельные» формы (например, работоголизм).
Аддиктивное поведение связано с желанием человека уйти из реальной жизни путем изменения состояния своего сознания. В зависимости от механизмов ухода из реальности выделяются фармакологические или химические, субстанциональные и пищевые зависимости. Фармакологические (химические) – подразуме- вают под собой наркотизм (наркомания), алкоголизм, табакокурение, токсикоманию; субстанциональные – включают компьютерные, игровые, эмоциональные созависимости (секси любовные зависимости), трудо- или работо-голизм, пищевые зависимости и др. Подразделение средств аддикций на типы (разновидности) подразумевает: психоактивные вещества (алкоголь, наркотики и т.д.); активная включенность в процесс (хобби, игра, работа и т.д.); люди, предметы и явления окружающей действительности, вызывающие различные эмоциональные состояния. Эмоции являются составной частью зависимости; важна не модальность эмоции (положительная или отрицательная), а ее интенсивность (чем сильнее эмоция, тем сильнее зависимость).
Ц. П. Короленко, Т. А. Донских (1990) проведено изучение «а л к о г о л ь н о й с у бк ул ь т у р ы», ядро которой составляют натуры с выраженным алкогольным и аддиктивным поведением. Авторы дают характеристику ад-диктивных мотиваций, присущих деструктивному поведению: атарактическая (приём алкоголя осуществляется с целью смягчить или устранить эмоциональный дискомфорт); субмиссив-ная (выделяется тенденция к подчинению, зависимости от других); гедонистическая (употребление с целью коэффекта, для получения удовольствия); с гиперактивацией поведения (сочетается с повышенной самооценкой); псев-докультурная (с приданием большого значения атрибутным свойствам алкоголя).
Аддиктивное поведение синонимично понятию тяжёлой ко м п ул ь с и в н о ст и, которая включена в саму сущность невротического процесса (Wurmser L., 1974); её визитной карточкой является ненасытность, автоматичность и бесконечная повторяемость («навязчивые повторения»). Другой важный критерий заключается в поляризации противоположностей, разделении всех оценок по полюсам; третий – чувство абсолютности и глобальности большинства переживаний, требование тотальности эмоционального или когнитивного понимания себя и мира («нарциссизм»). Эти характеристики подтверждают установленную нами связь между аддиктивным поведением и невротическим процессом.
Зависимость развивается как результат длительных невротических конфликтов, структурного дефицита, генетической предрасположенности, семейных и культурных условий, влияний окружающей среды. У каждого человека присутствует ядро аддиктивных процессов, которое проявляется в таких мягких формах, как пристрастие к еде, табаку, сладостям или кофе. Решающее значение, определяющее форму зависимости, играют отношения в системе «дитя – мать», превратности на раннем этапе формирования Эго и на этапе последующего созревания, способствующие фиксации и поддерживающие регрессию. Сущность проблем аддикта заключается в неспособности управлять своими аффектами, поддерживать здоровые отношения с окружающими, адаптивно изменять и контролировать своё поведение (Milkman H., Frosch W. A., 1973). Обширная психопатология, включающая д е ф и ц и т а рн о с т ь мотивационно-аффективной сферы, неспособность заботиться о себе и контролировать свои импульсы, предопределяет возникновение аддикции (Khantzian E., 1978).
По мнению J. Krystal (1982), многие аддик-тивные пациенты не способны дифференцировать свои чувства, склонны соматизировать аффект и не могут выражать свои чувства словами; не могут идентифицировать у себя эмоциональные состояния, например, отличить тревогу от депрессии, переживая дефект аффективной защиты. Вещества, вызывающие зависимость, помогают аддиктам компенсировать дефицитарность защиты от сильных эмоциональных переживаний. F. Schiffer (1988) описал феномен «продления боли», согласно которому аддиктивные пациенты намеренно продлевают состояние дистресса, продолжая употреблять вещества, вызывающие зависимость, с целью повторять оставшуюся неразрешённой боль, появившуюся на ранних стадиях развития. Однако аддикция не всегда означает признак патологической слабости, это и проявление фонтанирующей жизненной силы (например, творчество кофеиномана Оноре де Бальзака). При этом аддиктивная активность носит избирательный характер: в тех областях жизни, которые пусть временно, но приносят человеку удовлетворение и вырывают его из мира эмоциональной стагнации и бесчувственности, он может проявлять недюжинную активность для достижения цели.
Основной особенностью индивида со склонностью к аддиктивным формам поведения является р а ссо гл а со ва н и е психологической устойчивости в случаях обыденных отношений и кризисов. В норме психически здоровые люди легко (автоматически) приспосабливаются к требованиям обыденной жизни и тяжелее переносят кризисные ситуации. Они, в отличие от лиц с аддикциями, стараются избегать кризисов и волнующих нетрадиционных событий. Для аддикта традиционная жизнь с ее устоями, размеренностью и прогнозируемостью тягостна. Кризисные же ситуации с их непредсказуемостью, риском и аффектами являются для них той почвой, на которой они обретают уверенность в себе, самоуважение и чувство превосходства над другими. Отсюда проистекает феномен «жажды острых ощущений» (Петровский В. А., 1992), как побуждение, обусловленное опытом преодоления опасности. Если в борьбе со страхом преимущества на стороне потребности в острых ощущениях и если тенденция к риску не будет заторможена со стороны ценностей осторожного поведения, то индивид проявляет склонность к «бескорыстному» риску. Ключевым аспектом поведения аддиктов является нечестность, проявляющаяся в обманах и сокрытии фактов аддиктивного поведения. Аддикты обманывают сами себя (целью этого обмана является прерывание контакта со своими чувствами, осознанием происходящего, со своими настоящими потребностями); обманывают окружающих (членов семьи, коллег, провоцируя нечестность внутри семейной и рабочей системы) и «мир в целом» (стараясь произвести ложное впечатление на окружающих).
Клинические формы аддикций . Это прежде всего а л к о г о л ь н а я, в основе которой лежит употребление спиртосодержащих напитков. Алкоголь является пищевым продуктом или входит в них, не являясь запрещенным как наркотики. Алкогольная аддикция (как и очень близкая к ней по генезу и социальным последствиям н а р к о м а н и ч е с к а я ) является угрозой не только для личности, но и для человеческой популяции, общественного уклада: «по в е д е н ч е с к и й м у т а г е не з» лежит в основе быстро формирующейся склонности к агрессии, асоциальным поступкам, импульсивным действиям, насилию.
В современных условиях возможности реализации задач систематизации знаний многократно возрастают, осуществляя с помощью методов многомерной биостатистики (факторный, кластерный, дискретный анализы, логистическая регрессия, анализ соответствий, обобщенные линейные модели и др.) достижение основных целей доказательной медицины. Они осуществимы в условиях строгого клинического отбора, научной разработки отдельных диагностических рубрик с позиций клиникодинамической и персонологической характеристик отдельных случаев и целых когорт населения, клинико-патогенетической оценке аддик-тивных состояний в их динамике.
Главный редактор СВПН В. Я. Семке