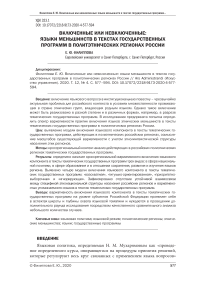Включенные или невключенные: языки меньшинств в текстах государственных программ в политэтнических регионах России
Автор: Филиппова Е.Ю.
Журнал: Ars Administrandi. Искусство управления @ars-administrandi
Рубрика: Государственная политика и политические институты: история и современность
Статья в выпуске: 4 т.12, 2020 года.
Бесплатный доступ
Введение: включение языкового вопроса в институциональную повестку - чрезвычайно актуальная проблема для российского контекста в условиях множественности проживающих в стране этнических групп, владеющих родным языком. Однако такое включение может быть реализовано в разной степени и в различных формах, например, в разрезе тематических государственных программ. В исследовании предпринята попытка определить спектр вариативности практик включения языков этнических меньшинств в тексты тематических государственных программ в полиэтнических регионах России. Цель: выявление модели включения языкового компонента в тексты тематических государственных программ, действующих в полиэтнических российских регионах, осмысление масштабов существующей вариативности с учетом этнолингвистической структуры населения этих регионов. Методы: кроссрегиональный контент-анализ действующих в российских полиэтнических регионах тематических государственных программ. Результаты: определено наличие кроссрегиональной вариативности включения языкового компонента в тексты тематических государственных программ трех видов: в сфере национальной политики, в сфере образования и в отношении сохранения, развития и изучения языков региона. Выявлено четыре модели включения языкового компонента в тексты тематических государственных программ: «всеохватная», «титульно-ориентированная», «приоритетновыборочная» и «игнорирующая». Зафиксировано отсутствие устойчивой взаимосвязи между спецификой этнонациональной структуры населения российских регионов и вариативностью упоминаемости языков в текстах тематических государственных программ. Выводы: вариативность включения языкового компонента в тексты тематических государственных программ на уровне субъектов Российской Федерации проявляет себя в аспектах широты и глубины охвата языковой тематики и нуждается в проведении дополнительного раунда исследования посредством качественного сравнительного анализа небольшого количества случаев.
Языковая политика, языковой режим, полиэтнические регионы, этнические меньшинства, языки, государственные программы
Короткий адрес: https://sciup.org/147246672
IDR: 147246672 | УДК: 323.1 | DOI: 10.17072/2218-9173-2020-4-577-594
Текст научной статьи Включенные или невключенные: языки меньшинств в текстах государственных программ в политэтнических регионах России
Языковая политика, определяемая Н. М. Мухарямовым как «проведение определенного курса, опирающегося на процедуры принятия решений, которые регулируют весь круг связанных с применением языка вопросов»
(Мухарямов, 2017, с. 680), включает в себя формулирование документов стратегического планирования. К ним в соответствии с Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации»1 относятся государственные программы субъектов Российской Федерации. В условиях этнолингвистического разнообразия, которое свойственно составу российского населения как в этнических региональных автономиях (национальных республиках, автономных округах и автономной области), так и в «обычных» субъектах (краях, областях, городах федерального значения), для органов государственной власти актуализируется вопрос включения языкового компонента в институциональную повестку, в том числе в тексты тематических государственных программ (Панов, 2019). Очевидно, что варианты такого включения могут быть различны, и их спектр может содержать как упоминание в тексте программы этнической группы без конкретизации относительно языка, так и упоминание родного языка конкретной этнической группы. Кроме этого, вариативность упоминания может выражаться в количестве этнических групп и ассоциированных с ними языков: речь может идти только о титульной группе, о нескольких или обо всех этнических меньшинствах, проживающих в регионе. При этом предположим, что выбор варианта включения языкового компонента в текст документов стратегического планирования обусловливается прежде всего этнолингвистической структурой населения региона: доля представителей этнического меньшинства может определять вероятность включения языка этого меньшинства в тексты государственных программ субъекта Российской Федерации. Настоящее исследование направлено на выявление моделей включения языкового компонента в тексты тематических государственных программ, действующих в полиэтнических российских регионах, осмысление масштабов существующей вариативности с учетом этнолингвистической структуры населения этих регионов.
МЕТОДОЛОГИЯ (ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ) ИССЛЕДОВАНИЯ
Концептуальное осмысление проблем, связанных с политизацией лингвистического измерения этничности в многосоставных государствах, нашло отражение в ряде понятий, ключевые из которых – «языковая политика» и «языковой режим» (Борисова, 2017; Kubota, 2016; Gazzola, 2014). Эти понятия тесно связаны между собой содержательно: в зависимости от того, насколько широко или узко определяется одно из них, сужаются или расширяются смысловые границы второго.
Содержательную связь между обозначенными понятиями следует продемонстрировать, отталкиваясь от концепта «языковой режим». Поскольку универсального понимания языкового режима в научном дискурсе не сложилось, условно можно выделить два крупных направления. Представители, размышляющие в логике первого направления (среди которых, например, А. Карла), склонны определять языковой режим в качестве совокупности
Филиппова Е. Ю. Включенные или невключенные: языки меньшинств в текстах государственных программ... всех публичных практик по поводу языкового вопроса и, в конечном итоге, как разновидность социально-политического порядка, находящегося в состоянии постоянной динамики (Carla, 2007; Boran, 2003; May, 2003). Второе условное направление, представительницей которого выступает Э. Лю, характеризуется более узким пониманием языкового режима как констелляцию нормативных правил, регулирующих использование языков в сообществе (Liu, 2015; Agarin, 2014; Pool, 1996; Liu and Ricks, 2012). В этом смысле понятие языкового режима, акцентируя внимание на институциональной стороне вопроса, фактически сливается с понятием языковой политики, оставляя за пределами, например, акторные взаимодействия по поводу оспаривания принятых и / или принимаемых правил. В промежуточной логике, но, как представляется, в большей степени тяготея ко второму направлению, находятся концептуальные разработки таких авторов, как Л. Кардинал и С. Зоннтаг (Cardinal, 2012; Cardinal and Sonntag, 2015; Sonntag and Turin, 2019). Предлагая рассматривать языковой режим через совокупность функционального, символического и политико-правового измерений, Л. Кардинал осуществляет попытку встроить нормативный аспект языкового режима в политико-идентитарный контекст, что, однако, все равно не позволяет объяснить связанность практик воспроизводства и регулирования языка(-ов) в сообществе (Cardinal, 2012; Cardinal and Denault, 2007; Борисова, 2016а).
Осмысляя оба полюса существующей дискуссии, можно отметить, что второе направление оказывается способным решать конкретные задачи, возникающие в этнополитических исследованиях, более методологически проясненным и успешным образом, чем первое («широкое») направление. С другой стороны, одновременно с этим в силу своей эмпирической рестрик-тивности такой подход оставляет за пределами те объяснения этнополитических феноменов, которые в конечном счете могут повлиять на непротиворечивую сборку исследовательских паззлов. За эмпирическую рестриктивность это направление дискуссии обоснованно критикует, например, Н. В. Борисова, отмечая, что «подход, предлагаемый Э. Лю, отличает нормативизм, поскольку она определяет языковой режим исключительно как “правила, регулирующие использование языка в сообществе”» (Борисова, 2017, с. 11). Не маркируя и не подразумевая исследовательскую несостоятельность «узкого» подхода к концептуализации языкового режима, такая критика дает основания для активной разработки и углубления теоретической дискуссии. В рамках этой разработки Н. В. Борисова предлагает рассматривать языковой (территориальный) режим и языковую преференциальную политику как связанные, но при этом легко различимые эмпирически и разграничиваемые концептуально феномены. В данной логике под языковым режимом предлагается понимать «систему специальных институциональных соглашений по вопросам использования языка, которые устанавливают образцы взаимодействий между членами регионального сообщества» (Borisova and Sulimov, 2017, p. 371). Под языковой преференциальной политикой, в свою очередь, понимается такой политический курс по поводу связанных с языками вопросов, который в процессе институционализации влечет за собой конструирование и функционирование языковых режимов различных типов (Борисова, 2016b,
-
с. 94). Представляется, что при этом варианте концептуализации становится возможным, с одной стороны, преодолеть эмпирическую рестриктивность определений и, с другой – сохранить их дескриптивный и объяснительный потенциал, не ориентируясь, в логике Дж. Сартори, на чересчур высокую степень абстрактности для осмысления вполне конкретных эмпирических явлений. В теоретическом отношении настоящая статья ориентирована на указанную концептуальную логику.
Теоретический каркас, организованный понятиями языкового режима и языковой политики, позволяет определить место и значимость документов стратегического планирования в совокупности политических практик, связанных с языковыми вопросами. Руководствуясь предложенной концептуальной логикой, разработку и функционирование таких документов в полиэтнических региональных сообществах можно рассматривать в качестве одного из направлений языковой преференциальной политики. Важно при этом, что от степени включенности языкового компонента в содержательную часть документов наряду с другими факторами зависит тип языкового территориального режима, формируемого в сообществе. С одной точки зрения, понятно, что само по себе включение / невключение того или иного языка этнического меньшинства в рамки содержания тематической государственной программы на региональном уровне вовсе не означает реализацию шага в сторону эксклюзивной языковой политики и связанного с ней языкового режима. С другой точки зрения, комплексность и системность языковой политики как целенаправленного курса предполагает значимость всех компонентов этого курса в констелляциях друг с другом для гармонизации межэтнических отношений в сообществе и в конечном итоге для реализации инклюзивного языкового режима. Это обстоятельство обусловливает исследовательский фокус, направленный на кроссрегиональный сравнительный анализ практик включения языкового компонента в тексты тематических государственных программ, и подчеркивает его значение для осмысления эффектов языковой преференциальной политики в полиэтнических субъектах Российской Федерации.
Как аргументированно отмечает П. В. Панов, в российском этнополитическом контексте заложен «мощный потенциал для вариативности присутствия “вопроса о языках” меньшинств в публичной и институциональной повестках» (Панов, 2019, с. 112). В составе Российской Федерации находятся субъекты, которые можно определить в качестве этнических региональных автономий в силу их особого статуса (например, национальные республики, большинство из которых содержит в своем названии этноним титульной этнической группы, а в своем составе – значимую по численности этническую группу) (Панов и Филиппова, 2015; Panov, 2016; Шкель, 2019). Более того, даже в составе населения неэтнических по статусу российских регионов обнаруживается ситуация множественности присутствия разных этнолингвистических групп, многие из которых обладают выраженной этнической идентичностью, время от времени артикулируемой в публичном пространстве (Тишков, 2019; Дробижева, 2013). Индикатором актуализации этого потенциала выступает включение языкового вопроса в тексты тематических государственных программ, принимаемых органами власти субъектов Российской Федерации.
Вопрос о кроссрегиональной вариативности действующих в российских регионах тематических государственных программ в разрезе этнолингвистического компонента при этом пока представляет собой исследовательскую лакуну, нуждающуюся в постепенном заполнении.
В настоящей статье предпринята попытка определить спектр кроссре-гиональной вариативности практик включения языков этнических меньшинств в тексты тематических государственных программ в полиэтнических регионах России. Результатом сбора эмпирических данных для проведенного исследования стало создание секции «Государственные программы субъектов РФ в сфере политики в отношении языковых меньшинств» в рамках базы данных «Языковые меньшинства и языковая политика в регионах России»2. «Регион – языковое меньшинство» выступает единицей наблюдения в границах созданной базы данных; база данных содержит 532 единицы наблюдения во всех субъектах Российской Федерации. Под языковыми меньшинствами при этом понимаются такие этнические группы, которые были выявлены по результатам проведения Всероссийской переписи населения в 2010 году. Тематическая секция базы, посвященная государственным программам, состоит из нескольких компонентов. При ее создании были проанализированы тексты трех видов государственных программ субъектов Российской Федерации как особого типа документов стратегического планирования:
-
1) отдельные государственные программы (или подпрограммы в других программах) субъектов Российской Федерации, направленные на сохранение, развитие, изучение языков региона (всего 8 программ / подпрограмм);
-
2) отдельные государственные программы (или подпрограммы в других программах) субъектов Российской Федерации в отношении сферы образования (всего 85 программ / подпрограмм);
-
3) отдельные государственные программы (или подпрограммы в других программах) субъектов Российской Федерации в сфере национальной политики (всего 84 программы / подпрограммы).
Полный перечень проанализированных государственных программ включил в себя 177 случаев. Тексты программ были исследованы с помощью контент-анализа в соответствии со специально разработанной авторской методологией в границах кроссрегиональной компаративистской перспективы.
В отношении государственных программ, направленных на сохранение, развитие, изучение языков региона, оценивались следующие параметры. Во-первых, был осуществлен поиск упоминания языка этнической группы в тексте программы в любом контексте, во-вторых, в тексте государственной программы в перечне мероприятий или иных ее частях (показатели результатов, правила субсидирования и пр.). Первый шаг, таким образом, был призван выявить значимость языков этнических меньшинств, проживающих в конкретном субъекте Российской Федерации, для текста программы, в то время как второй шаг, более углубленно, – включенность этих языков в спектр конкретных декларируемых действий. И первый, и второй параметры для внесения в базу данных были закодированы в дихотомической логике (1 – «да», т. е. «упоминается»; 0 – «нет», т. е. «не упоминается»). В-третьих, был осуществлен поиск упоминаний организаций, в названии которых присутствует этнический компонент. Если в тексте документа обнаруживалась некоммерческая организация среди участников программы, этому случаю присваивалось значение «1», если некоммерческая организация просто упоминалась в программе (не среди участников) – «2»; государственному (муниципальному) учреждению в списке участников программы присваивалось значение «3», упоминанию такого учреждения в тексте программы (не среди участников) – значение «4». Наконец, в качестве дополнительной текстовой переменной были зафиксированы названия ключевых исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, отвечающих за реализацию политики.
Отдельные государственные программы (или подпрограммы в других программах) субъектов Российской Федерации в отношении сферы образования были оценены в сходной логике, но с некоторыми дополнениями. Первым шагом было принципиально важно определить наличие в тексте программы этнокультурного компонента, поскольку сама по себе программа в сфере образования (в отличие от специализированных языковых программ) не означает значимость для нее этничности. Наличие такого компонента кодировалось как «1», в то время как отсутствие – «0». Далее были проанализированы и оценены в дихотомической логике упоминание меньшинства в тексте государственной программы в любом контексте, упоминание языка этнической группы в тексте государственной программы в любом контексте и так же, как в случае с языковыми программами, упоминание этнических организаций и упоминание языков в перечне мероприятий. В этой части анализа в отличие от части, связанной с государственными программами, направленными на сохранение, развитие, изучение языков региона, важным было фиксировать как упоминание языков, так и упоминание этнических групп без акцентуации их этнолингвистической особости: такие нюансы могут свидетельствовать о разной степени глубины / проработанности языковой политики в разрезе институциональной повестки.
Аналогичным образом были проанализированы и закодированы тексты документов стратегического планирования субъектов Российской Федерации в сфере национальной политики .
Следует подчеркнуть, что тематическая секция базы данных включила в себя тексты государственных программ, действующих на осень 2020 года. Консолидированный открытый источник, который объединил бы в себе полный перечень региональных программ в исследуемом виде со всеми актуальными дополнениями и изменениями, в свободном доступе отсутствует. Поэтому источниками, в которых был осуществлен поиск государственных программ, выступили официальные сайты соответствующих министерств (например, государственные программы по образованию – на сайте министерства образования и науки региона), справочно-правовые системы, предо- ставляющие полнотекстовый доступ к программам («Гарант», «Техэксперт»), а также официальные порталы субъектов Российской Федерации (не конкретных министерств, а субъектов в целом).
Теоретическое ожидание, сформулированное до проведения анализа эмпирического материала, ассоциировалось с тем, что в разных регионах России существует вариативность моделей включения языкового компонента в тексты тематических государственных программ. При этом предполагалось, что такая вариативность в первую очередь может быть связана со спецификой этнолингвистической структуры населения российских регионов. Исследователи языковой политики многократно подчеркивали и эмпирически подтверждали значимость структурного фактора в лице состава населения региона для реализации политического курса в отношении языков меньшинств (Таркашева, 2019). Так, например, Э. Лю с помощью количественного анализа языковых режимов в азиатских государствах (с применением качественных методов в рамках case-study для Малайзии и Сингапура) за период с 1945 по 2005 годы подтвердила свою гипотезу о влиянии уровня этнолингвистической гетерогенности в обществе на выбор правительством того или иного типа языкового режима (Liu, 2015). Это умозаключение кажется рациональным и уместным переложить на более конкретный и специфический контекст и ожидать, что доля представителей этнического меньшинства может определять вероятность включения языка этого меньшинства в тексты государственных программ субъекта Российской Федерации.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Проведенный анализ отдельных государственных программ (или подпрограмм в других программах) субъектов Российской Федерации, направленных на сохранение, развитие, изучение языков региона, позволил обнаружить низкую степень распространенности документов стратегического планирования такого типа. Из 85 субъектов Российской Федерации отдельные программы, связанные с языковой проблематикой, действуют лишь в республиках Татарстан3, Бурятия4, Башкортостан5, Тыва6, причем в Башкортостане такая программа была принята позже остальных регионов – в 2018 году. Подпрограммы по языковой тематике включены в тексты государственных программ по образованию в качестве подразделов в республиках Дагестан и Северная Осетия, в текст государственной программы по гармонизации межэтнических отношений – в Удмуртской Республике. В 2018 году в Республике Коми была принята региональная программа «Сохранение и развитие государственных языков Республики Коми (2019–2024 гг.)»7, в тексте которой встречается множественное упоминание коми языка, в то время как остальные языки и этнические группы упоминаются исключительно обобщенно как «государственные языки Республики Коми». Кроме этого, обнаружилось, что в ряде российских регионов действовали государственные языковые программы, однако не были продлены на актуальный период. Среди этих случаев: Республика Адыгея (действовала программа «Сохранение и развитие государственных языков Республики Адыгея и других языков в Республике Адыгея на 2011–2015 годы»8), Республика Карелия (с 2006 по 2010 годы действовала республиканская целевая программа «Государственная поддержка карельского, вепсского и финского языков в Республике Карелия»9) и Республика Саха (Якутия) (с 2012 по 2016 годы реализовывалась программа «Сохранение, изучение и развитие государственных и официальных языков в Республике Саха (Якутия)»10). В 2017 году также не была продлена тематическая государственная программа «Изучение языков народов Дагестана»11, но взамен нее появилась языковая подпрограмма в государственной программе о республиканском образовании.
Оценивая количество языков, включенных в тексты государственных программ, направленных на сохранение, развитие, изучение языков региона, следует констатировать обнаружение двух разных форм включенности: одни программы посвящены исключительно языку титульной этнической группы, другие – языкам этнических меньшинств, проживающих в регионе. В случае Республики Башкортостан упоминаются языки всех этнических групп, кото- рые присутствуют в составе населения (башкиры, татары, чуваши, марийцы, украинцы, удмурты, мордва, немцы, латыши, белорусы), причем как в тексте самой государственной программы, так и в мероприятиях. Кроме того, для случая Башкортостана актуально упоминание этнических организаций в тексте документа для всех языковых меньшинств, кроме украинцев, немцев, латышей и белорусов. Бурятский случай демонстрирует актуальность государственной программы только для титульной этнической группы, язык которой упоминается и в тексте, и в мероприятиях (неслучайно государственная программа так и называется – «Сохранение и развитие бурятского языка в Республике Бурятия»). За скобками остаются такие этнические меньшинства, проживающие в Республике Бурятия, как татары, украинцы, сойоты и эвенки. Аналогичная ситуация – в Республике Коми, где утвержденная в 2018 году программа нацелена только на язык коми без акцента на другие группы (украинцы, татары, белорусы, немцы, чуваши и азербайджанцы). В случаях Северной Осетии и Удмуртской Республики в тематических программах (подпрограммах) упоминаются только языки титульных этнических групп. То же самое характерно для Республики Тыва, хотя в ее случае тувинцы являются единственным количественно значимым этническим меньшинством в регионе. Противоположный случай представляет собой Республика Татарстан, где в тексте государственной программы также, как и в Республике Башкортостан, упоминаются языки всех этнических групп, присутствующих в составе населения региона (татары, чуваши, удмурты, мордва, марийцы, украинцы, башкиры). В мероприятиях, однако, не упоминаются украинцы и башкиры, а этнические организации не обнаруживаются в тексте программы вообще.
Обращает на себя внимание тот факт, что языковые государственные программы приняты исключительно в национальных республиках. Более того, интересно, что Татарстан и Башкортостан, традиционно выступающие в роли «локомотивов» политизации этничности в России, приняли наиболее инклюзивные государственные программы по языковой тематике, хотя гипотетически могли бы сделать акцент только на языки титульных этнических групп (татар и башкир соответственно), как это сделали в некоторых других республиках.
Переходя к интерпретации результатов анализа блока государственных программ субъектов Российской Федерации в отношении сферы образования , следует зафиксировать актуальность для них этнокультурного компонента в 26 случаях из 85. В указанном ряду вновь обращает на себя внимание то обстоятельство, что 19 случаев из 26 – это национальные республики, Еврейская автономная область, Ханты-Мансийский, Чукотский и Ненецкий автономные округа. Кроме того, заметим, что в регионах, где в государственные программы по образованию не включен этнокультурный компонент, упоминание какого-либо языка встречается лишь в двух республиках – Крым (украинский и язык крымских татар) и Башкортостан (башкирский и татарский языки). И в башкирском, и крымском случаях речь идет про языки наиболее крупных для региона этнических меньшинств, в то время как языки более малочисленных групп не называются.
Среди неэтнических по статусу субъектов Российской Федерации с присутствующим в государственных программах по образованию этническим компонентом находятся Камчатский, Пермский, Приморский края, Амурская, Свердловская и Челябинская области, Чукотка и город федерального значения Севастополь. Этнические меньшинства / языки этнических меньшинств среди представленного перечня регионов упоминаются в текстах только в четырех случаях: эвенки – в Амурской области (хотя они и не являются наиболее многочисленным этническим меньшинством в регионе), удэгейцы и корейский язык – в Приморском крае, татарский и башкирский языки – в Челябинской области, а также все основные этнические группы (украинцы, белорусы, крымские татары и армяне), кроме татар, в случае Севастополя.
Этнически особые субъекты Российской Федерации, в корпусах государственных программ в сфере образовательной политики которых был выявлен этнокультурный компонент, представляют два варианта актуализации этнического и этнолингвистического аспектов. Языки меньшинств в них упоминаются в 14 из 18 регионов, среди которых: Адыгея, Алтай, Бурятия, Дагестан, Еврейская автономная область, Калмыкия, Коми, Ненецкий автономный округ, Северная Осетия, Татарстан, Тыва, Хакасия, Чечня и Якутия. И вновь, как и в случае с тематическими языковыми государственными программами, язык упоминается в двух вариантах: либо только язык титульной этнической группы, либо и другие миноритарные языки (Татарстан, Дагестан, Якутия). При обращении внимания на упоминание не языка, а этнонима этнической группы, результаты оказываются практически аналогичными. Кроме этого, любопытно заметить, что этнические организации в текстах государственных программ в сфере образовательной политики не называются.
Анализ текстов государственных программ субъектов Российской Федерации в сфере национальной политики продемонстрировал наличие этнокультурного компонента во всех регионах, кроме Брянской, Кировской, Московской и Томской областей, Москвы и Ямало-Ненецкого автономного округа. При этом в случае государственной программы, принятой в Кировской области, несмотря на отсутствие этнокультурного компонента, обнаруживается упоминание всех крупных этнических групп, проживающих в регионе, – татар, марийцев, удмуртов и украинцев. В остальных случаях с отсутствующим этнокультурным компонентом упоминание этнических меньшинств и / или их языков обнаружено не было. В документах с включенным этнокультурным компонентом этнические группы указываются в 51 случае, и это много шире, чем в контексте государственных программ в сфере образовательной политики. Конкретные языки, однако, упоминаются значительно реже, чем этнические группы: такие упоминания обнаружились в Бурятии, Башкортостане, Ингушетии, Коми, Марий Эл, Мордовии, Северной Осетии, Татарстане, Тыве, Чувашии и Якутии (все они представляют собой этнические региональные автономии), а также в «обычных» регионах, среди которых Алтайский край, Амурская, Белгородская, Вологодская, Костромская, Курганская, Ленинградская, Новосибирская, Омская, Тюменская области (21 регион из 51). Формы упоминания языков вновь различны: от языков всех меньшинств, значимых для региона (например, в Башкортостане и Новосибирской области), до языка титульной этнической группы (Коми, Татарстан, Тыва), с промежуточной формой в виде нескольких языков из числа основных (Бурятия, Ленинградская область). Кроме того, массив текстов по национальной политике дает большую вариативность (16 регионов) в плане включенности этнонациональных организаций в тексты государственных программ, чем остальные два типа документов стратегического планирования. Так, например, в Коми государственные (муниципальные) учреждения упоминаются в списке участников программы, представляя каждую из ключевых для региона этнических групп (коми, украинцы, татары, белорусы, немцы, азербайджанцы). Другой пример – Башкортостан, где в перечне участников государственной программы есть этническая организация, представляющая башкир, так же как в Северной Осетии и Тыве – этнические организации, представляющие осетин и тувинцев соответственно.
Таким образом, проанализированные тексты тематических государственных программ подтверждают теоретическое ожидание по поводу наличия вариативности включения в них языкового компонента. Все эмпирические случаи в границах обнаруженной вариативности укладываются в следующие теоретические модели:
-
1. Всеохватная модель , имеет место, когда в текст государственной программы субъекта Российской Федерации включаются либо все этнические меньшинства, проживающие в регионе («наиболее многочисленные национальности»), либо родные языки каждого из таких меньшинств. К всеохватной модели относятся, например, республики Татарстан и Башкортостан в контексте государственных программ , направленных на сохранение, развитие, изучение региональных языков.
-
2. Титульно-ориентированная модель , актуальна для случаев, при которых в текстах государственных программ субъекта Российской Федерации встречаются упоминания только титульной для региона этнической группы и / или только родного языка титульной для региона этнической группы. К такой модели относятся, например, республики Коми, Татарстан и Тыва в разрезе государственных программ в сфере национальной политики.
-
3. Приоритетно-выборочная модель , актуализируется в тех ситуациях, когда в текстах государственных программ упоминаются не все основные для субъекта Российской Федерации этнические группы и родные для них миноритарные языки, а только некоторые. При этом выборочная приоритетность далеко не всегда оказывается обусловлена численностью этнических групп в составе населения регионов. Эмпирические примеры такой модели обнаруживаются главным образом среди неэтнических субъектов Российской Федерации – краев, областей и городов федерального значения, хотя встречаются также и среди этнических региональных автономий – национальных республик, автономной области и автономных округов.
-
4. Игнорирующая модель , в рамках которой этнолингвистический компонент вообще не упоминается в текстах действующих государственных программ, характерна преимущественно для регионов без статуса этнических региональных автономий.
Наиболее распространенной среди всех изученных случаев при этом выступает приоритетно-выборочная модель, наименее распространенной – всеохватная модель.
Выявленная вариативность включения языкового компонента в тексты тематических государственных программ не соотносится с этнолингвистической структурой населения регионов сколько-нибудь устойчивым и непротиворечивым образом. С одной стороны, наличие у этнической группы титульного статуса увеличивает вероятность включения ее языка в тексты государственных программ, явным выражением чего и выступают случаи, укладывающиеся в титульно-ориентированную модель. С другой стороны, корпус эмпирических примеров в границах приоритетно-выборочной модели позволяет обнаруживать такие случаи, в которых включение в текст государственной программы миноритарных языков продиктовано иными, чем специфика этнолингвистической структуры населения региона, обстоятельствами.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Языки этнических меньшинств, представляющих собой «наиболее многочисленные национальности» в составе населения субъектов Российской Федерации (по результатам Всероссийской переписи населения 2010 года), выступают одним из компонентов тематических государственных программ, принимаемых и реализуемых на региональном уровне. Проведенный контент-анализ текстов государственных программ трех типов (образование, национальная политика и языковая политика как самостоятельное направление) демонстрирует наличие вариативности включения в них языкового компонента. Во-первых, обнаруженная вариативность выражается в широте охвата языкового вопроса, т. е. в количестве языков этнических меньшинств, упоминаемых в тексте государственных программ. Во-вторых, обнаруженная вариативность выражается в глубине охвата языкового вопроса от более поверхностной фиксации в тексте государственной программы названия этнической группы, родным для которой является тот или иной язык, до более глубокой фиксации конкретного миноритарного языка в спектре конкретных мероприятий, а также этнических организаций, отстаивающих интересы представителей «своей» национальности. Отсутствие устойчивой взаимосвязи между этнонациональной спецификой структуры населения регионов и вариантами включения языкового компонента в тексты государственных программ при этом свидетельствует, по-видимому, об отсутствии универсальной общеразделяемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации логики интеграции миноритарных языков в содержание документов стратегического планирования.
Обращает на себя внимание, однако, обстоятельство, при котором наиболее активными агентами включения этнолингвистического компонента в тексты тематических государственных программ являются прежде всего российские национальные республики. Их активность, по-видимому, наряду с другими факторами обусловлена выраженной необходимостью поддерживать баланс в межэтнических отношениях, который в контексте присутствия титульной для региона этнической группы носит хрупкий и потенциально уязвимый характер. В целом представляется, что широта и глубина включения языкового компонента в тексты государственных программ на уровне субъектов Российской Федерации требует наличия в регионе «сонаправ-ленного движения». С одной стороны, в качестве важной мыслится готовность органов государственной власти включать в тексты государственных программ тот или иной миноритарный язык, особенно, например, в аспекте конкретных мероприятий, сопряженных с установленным объемом государственного финансирования. С другой стороны, не менее значимой кажется и артикуляция запроса со стороны этнолингвистических сегментов региональных сообществ на включение родного языка в тексты государственных программ, проводниками которой могут служить, например, этнонациональ-ные организации. Все это в совокупности с динамичным и подвижным характером государственных программ, которые принимаются на относительно краткосрочную перспективу и могут быть подвержены содержательным изменениям, обосновывает необходимость дальнейшего исследования обозначенной в статье проблематики. Следующим раундом исследования может выступить, например, проведение качественного сравнительного анализа небольшого количества случаев с помощью серии экспертных интервью, цель которого – объяснить, почему включение языкового компонента в тексты государственных программ не всегда происходит в соответствии с композиционным составом населения регионов.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), проект № 18-011-00763 А «Языковые режимы в современной России: эффекты языковой преференциальной политики в полиэтнических регионах».
Список литературы Включенные или невключенные: языки меньшинств в текстах государственных программ в политэтнических регионах России
- Борисова Н. В. Когда языки в огне: оспаривание языковых режимов как вызов балансу в межэтнических отношениях. М.: Полит. энцикл., 2017. 189 с.
- Борисова Н. В. Языковой территориальный режим: концептуализация понятия // Ars Administrandi (Искусство управления). 2016a. № 3. С. 5-16. DOI: 10.17072/2218-9173-2016-3-5-16
- Борисова Н. В. Языковые территориальные режимы в этнических федерациях // Вестник Пермского университета. Политология. 2016b. № 4. С. 94-115. DOI: 10.17072/2218-1067-2016-4-94-115
- Дробижева Л. М. Этничность в социально-политическом пространстве Российской Федерации. Опыт 20 лет. М.: Новый хронограф, 2013. 336 с.
- Мухарямов Н. М. Политика языка и языковая политика // Идентичность: личность, общество, политика. Энцикл. изд. / Под ред. И. С. Семененко. М.: Изд-во "Весь мир", 2017. С. 677-684.