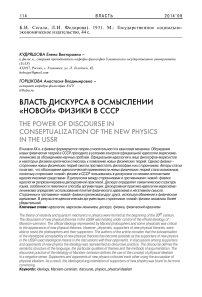Власть дискурса в осмыслении "новой" физики в СССР
Автор: Кудряшова Елена Викторовна, Горшкова Анастасия Владимировна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Идеи и смыслы
Статья в выпуске: 8, 2014 года.
Бесплатный доступ
В начале XX в. в физике формируются теория относительности и квантовая механика. Обсуждение новых физических теорий в СССР проходило в условиях контроля официальной идеологии марксизма-ленинизма за обсуждением научных проблем. Официальная идеология в лице философов-марксистов и некоторых физиков критически отнеслась к появлению новых физических теорий. Однако физики - сторонники новых физических теорий смогли противостоять философам и их сторонникам. Авторы статьи полагают, что обоснование идеологической приемлемости новых физических теорий стало возможным, поскольку сторонники «новой» физики в СССР пользовались в дискуссиях со своими оппонентами идеологическими средствами. В дискуссиях между сторонниками и противниками «новой» физики идеология репрезентирована дискурсивной практикой. Дискурс определяет семантическую структуру языка, особенности тематики и способы аргументации. Дискурсивная практика идеологии марксизма-ленинизма определяет использование понятия физического идеализма в негативном смысле. Сторонники и противники «новой» физики критиковали друг друга, используя обвинение в физическом идеализме. В результате идеологическая аргументация сторонников «новой» физики оказалась более убедительной.
Идеология, марксизм-ленинизм, дискурс, физика, физический идеализм
Короткий адрес: https://sciup.org/170167559
IDR: 170167559
Текст научной статьи Власть дискурса в осмыслении "новой" физики в СССР
В последние три десятилетия много написано о том, что власть мешала осуществлению плодотворной научно-исследовательской деятельности, и ничего полезного не внесла в представление об объекте и методе исследования. Такое отношение к идеологии марксизма-ленинизма оправданно: действительно, для многих сфер научного познания доктрина диалектического материализма оказалась не только бесполезной, но даже вредной. Общим местом исследований по истории естествознания в СССР является упоминание знаменитой сессии ВАСХНИЛ 1948 г., на которой была разгромлена генетика.
Однако необходимо обратиться к вопросу, почему одни сферы научноисследовательской деятельности, такие, в частности, как генетика, были подвергнуты решительному «разгрому», а другие смогли «выстоять»? Как ученые смогли аргументировать диалектико-материалистическую легитимность тех областей научного знания, которые рассматривались как «буржуазные», «позитивистские», «идеалистические»? Обратимся к истории становления физики в СССР.
Первая половина XX в . связана с революционными преобразованиями в физике – появлением и становлением специальной и общей теории относительности, квантовой механики. Появление этих теорий разграничило область применения «классической» и «новой» физики. Отношение к «новой» физике в СССР было неоднозначным. С одной стороны, многие физики (А. К. Тимирязев, Н.П. Кастерин, А.С. Предводителев, В.И. Романов и др.) не захотели (или не смогли) принять новую методологию описания мира. Сторонники этой позиции старались обосновать универсальность методологии «классической» физики, чтобы показать бессодержательность новых физических теорий. С другой стороны, нашлось немало физиков-профессионалов (И.Е. Тамм, Я.И. Френкель, В.А. Фок и др.), которые не просто приняли «новую» физику, но и начали плодотворную исследовательскую работу в новом русле. Концептуальные противоречия между «классической» и «новой» физикой противопоставили в СССР группу «университетских»1 и «академических» физиков.
Еще одно противостояние выросло на почве противоречий между философами-марксистами и физиками. Первые поддержали «университетских» физиков и активно вступили в борьбу с «новыми» теориями. Столь же активно «академические» физики противостояли невежеству «университетских» физиков и марксистов-философов 2 , их поддержавших. Противостояние «университетской» и «академической» физики продолжалось до середины века, и все же сторонники «новой» физики смогли обосновать необходимость научных исследований в этом русле; не последнюю роль сыграло значение физики в развитии обороноспособности СССР.
И все же ссылка на «ядерный щит» 3 недостаточна для разъяснения вопроса, почему «новая» физика не подверглась разгрому. Следует понимать, что идеология марксизма-ленинизма в СССР имела особый статус и регламентировала все сферы жизни человека и общества. Способность ученого представить свое научное исследование как демонстрацию диалектикоматериалистического подхода играла главную роль в принятии решения, будет ли это исследование принято как научное.
Для того чтобы понять, как ученый-физик работал в условиях идеологии, полезным представляется использо- вание понятия «дискурс»1. Под дискурсом принято понимать семантическую систему, репрезентирующую идеологию и имеющую когнитивное содержание. В основе представлений о дискурсе лежит убеждение в том, что существует определенная связь между идеологией и языковой репрезентацией. Эта связь определяет способ организации любого рассуждения, находящегося в контексте идеологии [Орланди 1999: 198]). Организация рассуждения имеет отношение к особенностям семантической структуры текста, стилистической специфике использования языка, особенностям тематики и способов аргументации.
Смысловым пространством дискуссий между физиками (а также между физиками и философами) в СССР была идеология марксизма-ленинизма. Она определяла основные постулаты, которые в той или иной форме должны были присутствовать в любом рассуждении. Дискурс советской марксистско-ленинской идеологии в отношении физики строился на следующих постулатах.
-
1. Наличие знаковых и смысловых оппозиций: «буржуазный» – «пролетарский», «западный» – «советский»; «идеализм» – «материализм», «позитивизм» (махизм) – «марксизм», «партийный принцип» – «космополитизм». Обратим внимание на то, что само введение этих знаков в практику использования, многократное их повторение во всех работах советского времени говорит о сознательной идеологической репрезентации определенного рода убеждений.
-
2. Подчеркнутый характер полезности всякого научного исследования для дела «строительства социализма». Причем под «строительством социализма» понимали формирование не только особой социальной системы, но и сциентистски ориентированной культуры.
-
3. Проти вопоставление «дореволю-
- ционного» и «послереволюционного» периода развития физики в России. Обратим внимание, что любая история физики в России, написанная в советское время, начиналась с упоминания о том, что «до революции» физическое знание в стране было развито слабо. Само по себе это суждение вполне нейтрально и соответствует реальному положению дел в истории физики. Однако резкое противопоставление этих этапов развития физики имеет, безусловно, идеологическое основание.
-
4. Обязательное указание, что философия «диалектического материализма» является самой прогрессивной формой философии, единственно пригодной для анализа научного знания.
-
5. Цитирование основных работ классиков марксизма-ленинизма, в последовательности – В.И. Ленин, Ф. Энгельс и др. Использование этих работ в построении аргументации было обязательным 2 .
В частных физических вопросах эти идеологемы часто опускались. В некоторых случаях их помещали в отдельные главы – во введение или заключение. Однако в ходе дискуссий, актуализирующих противоречие, не упомянуть хотя бы одну из идеологем – означало обнаружить «слабое место».
Противоречия между сторонниками «новой» физики и их оппонентами неверно понимать как борьбу ученых с идеологами. В действительности «академическая» физика находилась внутри идеологического контекста, и любой шаг в этих пределах был строго регламентирован. Апологетика нового физического мировоззрения разворачивалась в поле марксистско-ленинского дискурса и действовала по его правилам.
Показательным в этом смысле является один фрагмент из истории указанного противостояния, связанный с взаимными обвинениями в «физическом идеализме». Советская идео- логия однозначно осуждала идеализм в любой его форме, не только как «ложное» мировоззрение, но и как философское основание заблуждений в построении физических теорий. Поэтому обвинение в идеализме было одновременно обвинением в отходе от постулатов диалектического материализма и в «ложности» научной теории. Физики активно пользовались этим маркером для критики оппонента.
Наиболее последовательным в критике «новой» физики был А.К. Тимирязев. Он стремился построить последовательность рассуждений, ведущих к отрицанию теории относительности и квантовой механики. А.К. Тимирязев исходил из того, что выбор той или иной формы философского мировоззрения (прежде всего он обращал внимание на решение онтологического вопроса) определяет успех в решении конкретных физических задач. Единственно верным философским мировоззрением всякого естественника (как и всякого человека) А.К. Тимирязев считал позицию диалектического материализма и прямо об этом писал: «Для того, чтобы давать верную картину реально существующего мира, ученый должен быть материалистом – хочет он того или нет» [Тимирязев 1933: 12]. Всякий ученый, который отклоняется от материалистической позиции, переходит в неправильное мировоззрение, рано или поздно приводящее к ошибкам в решении чисто физических вопросов.
Отталкиваясь от этого основания, А.К. Тимирязев ставил своей главной задачей обнаружить суждения, прямо или косвенно свидетельствующее об идеалистической позиции физика, чтобы опровергнуть не только его философские установки, но и результаты научно-исследовательской деятельности. Предваряя критический разбор принципа индетерминизма, А.К. Тимирязев указал, что ученые, отрицающие принцип детерминизма склонны к «мистическим настроениям»: «Научно-популярные книги, особенно в Англии, превращаются в самые отвратительные богословские трактаты» [Тимирязев 1933: 17]. Затем с особым вниманием автор разобрал выдержки и цитаты из публицистических работ западных физиков, в которых фигурирует понятие Бога, свободы воли и пр., и пришел к выводу о том, что их научные исследования не могут расцениваться как допустимые. И только после этого аргумента автор привел более последовательные и более убедительные аргументы от здравого смысла, более или менее согласующиеся с областью физики.
Показательно, что А.К. Тимирязев смог привести аргументы в защиту классического (лапласовского) принципа детерминизма (и тем опровергнуть принцип индетерминизма), однако начал с аргумента, имеющего идеологическое значение. В свое, по сути, физическое исследование автор сознательно ввел идеологему борьбы с идеализмом и мистикой, чтобы подчеркнуть нелегитимность «новой» физики с точки зрения диалектического материализма.
Этим же идеологическим приемом пользовались его оппоненты – сторонники «новой» физики. Я.И. Френкель исходил из того, что материалистическое основание может быть только у тех физических теорий, которые согласуются с опытом. Исходя из этого концептуального основания, для опровержения гипотезы эфира вполне достаточно проанализировать отрицательный результат опыта Майкельсона, который автор неоднократно приводил в своих работах. При этом Я.И. Френкель понимал, что этого аргумента недостаточно для идеологизированной советской физики. Автор построил рассуждение, приведшее к заключению об идеалистических основаниях сторонников гипотезы эфира.
Я.И. Френкель мастерски показал, что понятие мирового эфира можно считать проявлением мистицизма: «Это понятие до сих пор многими учеными рассматривается как основание физического строения мира. В этом смысле роль эфира вполне сравнима с ролью божества в религиозном понимании Вселенной. Можно без преувеличения сказать, что для физиков и натурфилософов старой школы эфир является тем же, чем божество для верующих» [Френкель 1970: 136].
Затем автор провел сравнительную характеристику истории становления религии и натурфилософии и пришел к выводу о том, что окончательная победа атеизма в культуре должна сопровождаться падением эфира в физике.
Критически Я.И. Френель высказывался в адрес тех физиков, которые пытаются реабилитировать гипотезу эфира: «Крушение эфира поставило многих, если не большинство, физиков в положение верующих… Начинается настоящий мистический культ мирового эфира, своеобразное эфироискательство» [Френкель 1970: 145-146]. Это рассуждение явно адресовано его оппонентам в СССР.
А.К. Тимирязев и Я.И. Френкель, будучи оппонентами, придерживались разных взглядов на решение научных проблем, однако оба находились в контексте идеологии и подчинялись одним правилам построения рассуждений. Дискурс марксистско-ленинской идеологии предполагал использование понятия «идеализм» в негативном смысле, оба физика пользовались этим языковым маркером в критике взглядов противника. Этот факт говорит, во-первых, о степени влияния идеологии на научные дискуссии в СССР, а во-вторых, об известной содержательной пустоте философской дискурсивной практики в советской стране. В конечном счете, обвинить в идеализме можно было кого угодно, предложив особое толкование идеализма. Таким образом, идеологический спор в СССР – это спор о толкованиях идеологических маркеров.
Идеология формирует дискурсивную практику, организующую знаковую структуру языка, форму рассуждения, аргументации. Когда идеология становится орудием политического господства, дискурсивная практика становится частью естественного языка. Этот «идеологический язык» оформляет любое рассуждение, вне зависимости от области его применения. Однако содержательная, смысловая наполненность этого рассуждения не связана с идеологией. Именно в этом зазоре между идеологическим маркером и пустотой его значения физики первой половины XX в. смогли найти способ защиты новых физических теорий.
Работа поддержана грантом РГНФ № 14-13-73001.