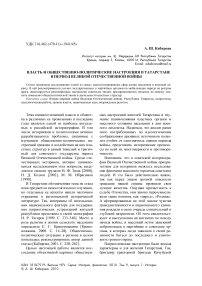Власть и общественно-политические настроения в Татарстане в период Великой Отечественной войны
Автор: Кабирова Айслу Шарипзяновна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 1 т.9, 2010 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию одной из самых идеологизированных сфер жизни населения в военный период. В ней рассматриваются усилия государственных и партийных органов по мобилизации народа на разгром врага, анализируются разнообразные настроения советских людей, предпринимаются попытки по-новому оценить изменение общеполитической линии в деятельности властных структур.
Вторая мировая война (великая отечественная война), республика татарстан, патриотизм, идеологическая работа, органы власти, национальная идея, возрождение религии
Короткий адрес: https://sciup.org/14737181
IDR: 14737181 | УДК: 316.462
Текст научной статьи Власть и общественно-политические настроения в Татарстане в период Великой Отечественной войны
Тема взаимоотношений власти и общества в различных ее проявлениях в последние годы является одной из наиболее актуальных в российской историографии. В том числе историками и политологами активно разрабатываются проблемы, связанные с изучением общественно-политических настроений граждан и воздействия на них властных структур в самый тяжелый и трагичный для советского государства период Великой Отечественной войны. Среди отечественных историков, активно занимающихся исследованием этих вопросов, выделяются своими трудами В. Ф. Зима [2000], Н. Д. Козлов [2002], М. М. Ибрагимов [1998].
В Татарстане обозначенная тема не стала пока предметом самостоятельного изучения, но отдельные ее аспекты нашли частичное отражение в региональной исторической литературе. Так, материалы об использовании национального фактора для поддержания патриотических устремлений жителей республики представил в своей монографии И. Р. Тагиров [1999. С. 333–340]. Место и роль религии в жизни сельского населения определила Е. Г. Кривоножкина [Криво-ножкина, 2000. С. 14–28]. Общественнополитическую ситуацию в регионе в целом попыталась реконструировать автор данной статьи [Кабирова, 2001. С. 258–262].
Целью настоящей работы является воссоздание объективной картины обществен- ных настроений жителей Татарстана и изучение взаимовлияния властных органов и массового сознания населения в дни военного лихолетья. Надеемся, что анализ ранее мало востребованных по идеологическим соображениям архивных источников позволит отойти от однозначных оценок периода войны, представить исторические процесс-сы во всей их многомерности и противоречивости.
Напомним, что в советской историографии Великой Отечественной войны приоритетным для историков являлось исследование феномена массового героизма советских людей. И это было действительно важно, так как перед лицом грозной опасности граждане нашей страны проявили свои лучшие качества. Ощущая причастность к судьбе Отечества, они заново переосмысливали такие понятия, как «народ», «Родина». А сформированные на этой основе чувства гражданственности и национального единения рождали в свою очередь сознательный и глубокий патриотизм. Об этом свидетельствуют и выступления на митингах по поводу начала войны, и массовый поток заявлений добровольцев в партийные и советские органы, в которых люди заявляли о своей решимости биться до последнего и уничтожить грозного врага.
Патриотические настроения были весьма характерны и для жителей Татарстана. Так, бригадир тракторной бригады Кичуйской
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2010. Том 9, выпуск 1: История
МТС Акташского района республики А. А. Хлыстенков писал в своем заявлении следующее: «Сейчас, когда фашисты напали на нашу страну, я добровольно ухожу на фронт. И пусть гитлеровские разбойники знают, что наша Красная Армия развеет в прах их сумасбродную идею мирового господства» 1. Рабочий фабрики кинопленки № 8 г. Казани И. С. Батуев, выступая перед собратьями по цеху, уже в первые дни войны, говорил: «Я иду в Красную Армию и буду защищать границы Советского Союза, а вы – оставшиеся в тылу – дайте слово, что с честью выполните задания партии и правительства» 2.
Аналогичных примеров было множество. В целом за шесть дней войны (с 23 по 29 июня 1941 г.) от граждан республики поступило свыше 5 тысяч заявлений об отправке их на фронты войны 3.
Вместе с тем следует подчеркнуть, что массовое сознание военной поры было далеко не столь однозначно, как это представлялось в советской исторической литературе. Среди населения встречались и диаметрально противоположные настроения. Например, в ходе мобилизации, организованной военкоматами, на фоне всеобщего всплеска патриотизма имели место отдельные случаи дезертирства, уклонения от службы и членовредительства. В частности, военнообязанные Фатыхов (Дубъязский район), Пронин (Бавлинский район), Амиров (Актанышский район) с целью уклонения от мобилизации отрубили себе по несколько пальцев на руках. Все они были осуждены. Военнообязанный из Сабинского района Татарстана Яруллин, получив повестку, заявил: «Лучше под суд, в тюрьму, чем пойти в армию» 4. Только за три месяца с начала боевых действий военной прокуратурой республики 49 человек были привлечены к уголовной ответственности и осуждены за уклонение от мобилизации, еще 27 человек – за дезертирство 5.
Определенное распространение в военный период получили враждебные высказывания горожан. Так, 29 июля 1941 г. из рядов ВКП(б) был исключен бывший директор Абдрахмановской средней школы
Альметьевского района за то, что в период мобилизации в Красную Армию говорил: «Мы победить не можем, Германия нас победит, нас туда отправляют как пушечное мясо» 6. Двадцать четвертого июля 1941 г. работающая в народном суде Кировского района г. Казани Никитина-Врачева при обсуждении последних событий на фронте, утверждала: «Немцы уже добрались до Москвы, нужно сдаваться, – война бесполезна и только напрасно убивают людей. Если доберутся до Казани, то необходимо сдаваться для того, чтобы остаться в живых» 7. Все задержанные за негативные высказывания в адрес Советской власти привлекались к ответственности по ст. 58–10 ч. 2 Уголовного Кодекса РСФСР за контрреволюционную агитацию. Дела Галимова и Никити-ной-Врачевой среди прочих также были переданы в суд.
Примеры такого рода были не единичны. Они вместе с другими вполне укладываются в общую мозаичную картину, отражавшую настроения людей военного времени. Более того, на суждения и мнения граждан, особенно в начале войны, большое влияние оказывали периодически доходившие до республики слухи о скором занятии Москвы, о предательстве высших военачальников, о проникновении фашистов в глубокий тыл. Жители Татарстана, напуганные и обеспокоенные подобными разговорами, в ожидании худших времен в срочном порядке скупали все, что еще оставалось в магазинах, тем самым еще более усугубляя и нагнетая обстановку.
Таким образом, устремления и ценностные ориентации советских людей были далеко не столь однородно патриотичны, как внушала нам до сих пор официальная историография. Они отражают весьма сложную гамму чувств. Наряду с подавляющим большинством населения, искренне желавшим отстоять и сохранить Советскую власть, существовали вполне определенные категории граждан, «обиженные» ею в годы осуществления индустриализации и коллективизации, не примирившиеся с разрушением церквей и мечетей, невинно пострадавшие в период разгула массовых репрессий.
Именно эти общественно-политические настроения, помноженные на татарскую на- циональную идею, связанную с мечтами о возрождении государственности татарского народа, пытались использовать гитлеровцы при создании летом 1942 г. легиона «Идел-Урал». Они надеялись повернуть оружие в руках военнопленных татар и представителей других народов Поволжско-Уральского региона против Советов [Гилязов, 2005. С. 3–45]. Но их расчетам не суждено было сбыться – несмотря на огромные трудности и лишения предвоенной и военной поры, в начавшейся войне интернациональный вектор развития народов СССР, т. е. сближение и единение их против общей смертельной угрозы, проявил себя намного ярче и сильнее, чем национальный. В итоге ни один из батальонов легиона не принял участие в боевых действиях на стороне вермахта.
К тому же власть, добиваясь свежих решений в поднятии патриотического настроя граждан, в военные годы пошла на целый ряд уступок идеологического характера. Для подъема национального духа татарского народа было разрешено обращение к давно закрытым, но бережно сохраненным в национальной сокровищнице сюжетам и образам героического прошлого. Татарская интеллигенция, «вспомнив» о времени существования могущественных средневековых татарских государств, обратилась к истории Золотой Орды, возродив образы национальных героев, мужественно боровшихся с врагами. В военные годы появились такие произведения, как «Идегей» Наки Исанбета, «Страна Тартар» Шайхи Манну-ра, «Перстень» Фатыха Хусни и другие, за создание которых татарские писатели подверглись остракизму впоследствии.
Национальная идея нашла отраженение и в инициированной властями кампании по написанию писем-наказов от трудящихся национальных республик фронтовикам. Так, 5 марта 1943 г. в «Правде» было напечатано письмо трудящихся Татарской АССР всем фронтовикам-татарам, под которым подписались 1 511 137 человек. В нем говорилось: «Татарские джигиты! Вам… в дни замечательных побед наших войск шлет татарский народ свой пламенный салям!.. Мы крепко верим, что вы не дадите передышки врагу, будете гнать его все дальше на запад и до конца истребите немецких захватчиков!» 8.
Обращение к фронтовикам вызвало большой патриотический подъем среди солдат и офицеров. Отвечали на него целыми воинскими подразделениями, заверяя своих земляков в непримиримости к врагу и решимости выполнить наказ Родины.
Другое направление ослабления идеологического контроля в стране и в регионах проявилось в прекращении антирелигиозной пропаганды. Впервые после разгромных акций предыдущих лет верующим позволили открыто посещать церкви и мечети, проводить необходимые ритуалы. В Национальном архиве Республики Татарстан хранится значительное количество документов, в которых жители русских и татарских деревень просят руководящие органы республики разрешить им открыть культовые здания, переставшие функционировать в разгар атеистической кампании. С подобными ходатайствами обратились, например, верующие христиане селений Сахаровка Алексеевского района, Арбузов-Баран Би-лярского района, Арсланово Кайбицкого района 9. Соответствующие письма-просьбы посылали и мусульмане, в частности жители деревень Ибрайкино Аксубаевского района, Кулмаксы Ново-Шешминского района, Набережные Челны Алькеевского района 10.
В политическом развитии общества в годы войны также произошли определенные изменения. В тот период большее значение стало придаваться росту национальных кадров во всех советских учреждениях, повышенное внимание уделялось продвижению лиц коренной национальности в руководящие структуры. Так, из имеющихся в 1943 г. в республике 1 682 сельских Советов 898 возглавлялись татарами 11. Председателем Президиума Верховного Совета ТАССР являлся Г. А. Динмухаметов. Хотя при оценке деятельности Советов депутатов трудящихся не следует забывать, что, несмотря на официальное признание их, согласно Конституции, органами государственной власти, роль Советов была сведена к минимуму.
Высшая распорядительная власть в Татарстане также была представлена лицами коренной национальности. В должности председателя правительства ТАССР в годы войны работали С. Х. Гафиатуллин и С. Ш. Шарафеев.
Ключевое место в политической структуре Татарстана, несомненно, оставалось за партийными организациями. Они фактически стояли над госорганами. Центральный аппарат бдительно отслеживал действия первых лиц республики, и в случае «проколов» со стороны последних быстро заменял их. За четыре года войны в республике сменилось пять первых секретарей Татарского обкома ВКП(б). Причем все они по установившейся традиции были русскими: А. Але-масов, А. Колыбанов, С. Пазиков, В. Никитин. Но в военный период произошло весьма примечательное событие. В 1944 г. с одобрения вышестоящих органов Татарский обком возглавил татарин – З. И. Муратов. В некоторой степени и этот шаг можно считать проявлением наметившегося в годы войны более лояльного отношения властей к национальным кадрам, что в целом весьма благоприятно повлияло на настроения жителей республики.
В свою очередь, республиканские государственные и партийные органы стремились оправдать оказанное им доверие. Татарстан в годы войны являлся одной из важных тыловых баз. Здесь ускоренными темпами развивалась тяжелая промышленность, производилась сельскохозяйственная продукция. Не исключая патриотической составляющей труда советских людей, следует отметить, что определенное место в достижении необходимых производственных показателей имели и нажимные административные методы местного руководства. Люди по-разному относились к такому давлению. Многие, не одобряя его, высказывались следующим образом: «Я не стальной, чтобы ночью работать, мне нужно отдохнуть», или «Что вы ко мне пристаете, я вам под козырек не взял» 12.
Особенно тяжелое положение в годы войны сложилось в сельском хозяйстве Татарстана. Из года в год уменьшались посевные площади, падала урожайность, сокращалось поголовье скота, в связи с чем государственные планы в полном объеме выполнить не удавалось. Тогда в ход шли любые способы. Сдача хлеба проводилась под угрозой ареста, в семьях производились обыски. «За колоски», собранные с полей, жители подвергались уголовному наказанию. Нередки были факты избиения колхозников председателями колхозов и бригадирами. Невозможность примириться с подобным положением приводила к тому, что среди сельчан распространялись «контрреволюционные» разговоры. Закиров из Набережно-Челнинского района республики, комментируя ситуацию в колхозе «Дон», предупреждал: «Надо постепенно готовиться, так как в колхозах советской власти скоро не будет, и мы будем по-старому жить» 13. Егорова из деревни Старое Ильмовил Дрожжановского района заявляла: «У нас не хватает хлеба, мы голодаем, а наших мужей и братьев заставляют воевать» 14. Все эти обстоятельства, конечно, тоже отражались в массовом сознании и рождали противоречивое отношение к властным инстанциям.
Таким образом, в военный период общественно-политическая жизнь в Татарстане характеризовалась значительным многообразием: в ней сосуществовали различные направления – от глубоко патриотического до резко противодействующего властям. Но желание объединить все население в общей борьбе против ненавистного врага, преодолеть недоверие к властным структурам, заставило руководящие органы страны пересмотреть во многих позициях свою идеологическую политику, которая выразилась главным образом в использовании национального фактора и возрождении религии.
Однако политические послабления в советском государстве оказались весьма непродолжительны. Как только впереди забрезжила Победа, власти с прежним рвением взялись за «наведение порядка». Уже в 1944 г. начались масштабные кампании по выселению с мест проживания калмыков, чеченцев, крымских татар, балкарцев и др. Основанием для их депортации послужили обвинения якобы в массовом предательстве.
В отношении же поволжских татар, только в Татарской АССР по переписи 1939 г., насчитывавшей 1 422 тыс. человек (что составляло четвертую часть всех татар, проживавших на территории СССР 15), центральные власти начали проводить линию, направленную на недооценку его этнической культуры. Она нашла свое выражение в принятом в августе 1944 г. постановлении ЦК ВКП(б) «О состоянии и мерах улучшения массово-политической и идеологической работы в Татарской партийной организации» 16. В нем местные партийные органы фактически были обвинены в преувеличенном внимании к национальному фактору, причем «ошибки и недостатки националистического характера», согласно постановлению, «были допущены» историками и литераторами при создании тех произведений, которые еще недавно властью назывались «патриотически выдержанными» и объективно отражающими историю татар.
Что касается религии, то период примирения государства и конфессиональных организаций тоже оказался временным. Сразу после окончания войны Центральный Комитет ВКП(б) соответствующими документами напомнил членам партии о необходимости усиления антирелигиозной борьбы и активизации атеистической работы среди населения в средствах массовой информации. Принятие этих и всех последующих документов оказало принципиальное влияние на общественно-политическую ситуацию в стране и в конечном итоге означало свертывание либеральных тенденций в государстве.