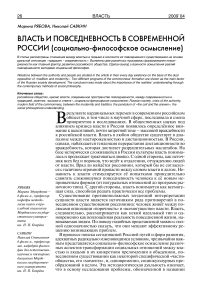Власть и повседновность в современной России (социально-философское осмысление)
Автор: Рябова Марина Эдуардовна, Савкин Николай Степанович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Тема
Статья в выпуске: 4, 2009 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены отношения между властью и людьми в контексте их повседневного существования на основе дуальной оппозиции «традиция - современность». Выявлены две различных программы формирования повседневности как главный фактор развития российского общества. Сделан вывод о важности осмысления реалий повседневности методами социальной философии.
Российское общество, кризис власти, современное пространство повседневности, между современностью и традицией, маятник "вызова и ответа", социально-философское осмысление
Короткий адрес: https://sciup.org/170164808
IDR: 170164808
Текст научной статьи Власть и повседновность в современной России (социально-философское осмысление)
РЯБОВА
Марина Эдуардовна – д.филос.н., профессор кафедры методологии науки и прикладной социологии Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарёва
САВКИН
Николай Степанович д.филос.н., профессор, зав. кафедрой философии для естественнонаучных и нженерных дисциплин Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарёва
В результате кардинальных перемен в современном российском обществе, в том числе в научной сфере, последовала и смена приоритетов в исследованиях. В общественных науках под влиянием кризиса власти в России появилось определённое внимание к щекотливой, почти запретной теме – массовой враждебности к российской власти. Власть в любом обществе существует в диапазоне между настороженностью и дистанционностью. В России, однако, наблюдается тенденция перерастания дистанционности во враждебность, которая достигает разрушительных масштабов. На базе исторически сложившейся в России культуры власть понималась и продолжает трактоваться двояко. С одной стороны, как источник всех бед и пороков, что ведёт к отдалению, отчуждению людей от власти. Вряд ли найдётся россиянин, который бы не согласился с наличием огромной пропасти между словом власти и делом. Ненависть к власти стимулируется её попытками принудительно сдвигать сложившуюся повседневность человека к её новым непривычным формам (от натуральных отношений до программ рыночного типа). С другой стороны, власть понимается как всемогущая сила, способная решать практически все проблемы.
Существование противоположных тенденций интерпретации сущности власти является источником ряда противоречий в повседневном существовании россиянина: человек живёт между полюсами оппозиции «порочность» и «всемогущество» власти. Власть, следовательно, рассматривается как некий идеальный тип и одновременно как воплощённая реальность повседневной жизни, навязываемая людям. По поводу подобных представлений можно с полной однозначностью сказать, что они мешают эффективному решению возникающих проблем.
В процессе поиска сегодняшней Россией путей и форм развития, адекватных радикально изменяющимся условиям, чрезвычайно важным представляется социально-философское осмысление различных аспектов трансформации социальных отношений между властью и людьми в их конкретном преломлении в обыденном, повседневном существовании как некоторой специфической «части» общества, его «момента», и, одновременно, социокультурных преобразований в целом. Эта методологическая дуальность означает, что в основу исследования проблемы, обозначенной в названии статьи, кладётся некоторая дуальная оппозиция части и целого, позволяющая рассматривать полюса этой оппозиции через их диалектическое взаимопроникновение – взаимоотталкивание.
Современность как всеобщее состояние
Понятие «современность» и его различные модификации прочно вошли в социально-гуманитарный дискурс XXI в. Вначале данное понятие использовалось для обозначения того, что относится к настоящему моменту времени. В последующем спектр его значений постепенно увеличился, и оно стало применяться для характеристики общества. Расширение смысла рассматриваемой дефиниции обусловило её выход на новый уровень – категориальный. Категория современности становится важнейшим инструментом познания текущего исторического социокультурного отрезка времени.
Не касаясь истории проблемы определения современности, хотелось бы лишь отметить складывающуюся специфическую тенденцию истолкования современности. В социально-философской литературе последних лет отчётливо фиксируется установка на противопоставление современности и традиции. Главной чертой первой становится дуальность инновации и традиции, которая раскрывается посредством системы дуальных оппозиций «рациональное – иррациональное», «естественное – искусственное», «изменчивое – устойчивое», «глобализация – локализация», «плюрализм – универсализм» и др.
Подобная двойственность современности не означает уничтожения традиции, становления тенденции к её полному вытеснению инновационными технологиями и механизмами общественного воспроизводства. Современность охватывает как вступившие на путь модернизации, так и сегодняшние традиционные общества. Сегодня становится несомненным, что существующие полюса «традиционное» и «инновационное» взаимополагают друг друга. Противопоставленные полюса взаимно действуют и переопределяют своё существование, а потому включены в состав категории «современность» в равной мере. Современность, задавшая нам угол зрения на повседневность, соединяется с традицией как её продолжение и составная часть, предстаёт как прошлое в настоящем.
Предметом социальной философии является исследование общества, истории и человека как субъекта деятельности и социокультурных взаимоотношений, варьирующихся между полюсами дуальной оппозиции «традиционное – инновационное». Вклад социальной философии в познание современности проявляется в синтезе представлений конкретики современности как всеобщего состояния. Другими словами, социальная философия акцентирует своё предметное поле, пронизанное идеей соотношения конкретно-всеобщего с единичным (единственным, уникальным), учитывая связи и взаимоотношения человека в постоянно изменяющемся историческом контексте.
Изменившийся характер современности на рубеже XX–XXI вв. связан с модернизацией и глобализацией, новой ролью коммуникации, возникновением «общества знаний», усиливающимся расслоением и неравенством людей в мире и многими другими проблемами. Все эти изменения характеризуют современность в её многообразных формах и проявлениях. Категория «современность» является более широким (чем «традиционность») информационным базисом, на основе которого уже формируются, на наш взгляд, новые концептуализации, объясняющие сложность, проблемность развития в повседневности как человека, так и общества в целом.
Институт власти возникает благодаря имманентным свойствам социума: рационализму, осознанию объективной необходимости интеграции действий и организованности. Социально-философские основы ошибочных действий власти заключаются в игнорировании реального повседневного состояния объекта власти и учёта его интересов. Утверждая связь развития человека и общества с напряжениями изменяющихся состояний сознания, следует признать, что именно повседневность лежит в основе человеческой жизни. Повседневное воспринимается как норма реальной современности, но повседневность не присуща самой современности изначально – повседневным нечто не является, а становится, повседневное для одного часто не является таковым для другого. Учитывая вышесказанное, можно утверждать, что одной из причин двух имманентных российских катастроф ХХ в. (крах Российской империи в 1917 г. и Советского Союза в 1991 г.) была неа- декватная оценка современного социокультурного потенциала и повседневных интересов россиян со стороны власти. Царское самодержавие, как и советская власть, не удержались, потому что русский народ фактически не был ни её объектом, ни субъектом. А россияне в своей массе не рассматривали власть как свою, поэтому никто не вышел на её защиту. Другими словами, существовало глубокое противоречие между властью и конкретным человеком. Это значит, что проблема выделения поведения человека вообще и каждого россиянина в частности должна рассматриваться как важная теоретическая и методологическая задача, заслуживающая самостоятельного решения. Пока данный факт недостаточно осознан научной общественностью.
В связи с этим, учитывая изменившийся социокультурный контекст, социальная философия вновь и вновь обращается к возможности взглянуть на властную структуру с точки зрения динамики социокультурных процессов повседневности. Тем самым открывается возможность понять, что власть – повседневная проблема миллионов людей, которая решается разными, подчас противоположными путями.
Вопрос о современной повседневности становится более сложным, если его трактовать применительно к России. В России ткань власти в пространстве повседневности соткана из системы личных отношений, имитирующих всеобщую связь. Человек судит о власти, исходя из своего социального положения, благополучия, настроения. Отсюда на первый план выходит эмоциональное отношение к власти. Более того, люди готовы в любой момент превратить свою оценку, своё понимание власти в действие – в поддержку или противостояние, пассивное выжидание, безразличие или накопление негативного потенциала к власти. Кажущаяся естественность этих представлений лишь скрывает отсутствие практически освоенных людьми и ясно осмысленных ими форм реальности, обеспечивающих внутреннюю связность и воспроизводимость общества. Результатом подобных суждений является тяготение российского общества к силовым средствам решений, предрасположенность к созданию мифов или их поиску.
Специфика повседневности в России
В ходе активных дебатов о специфике
России часто муссируется тезис об особо-сти России, развивающейся своим путём. Однако это только обостряет проблему специфики её повседневности как на уровне ценностных ориентаций, так и на уровне функционирования обусловленных этими ценностями социальных институтов. При такой общей посылке неясным остаётся вопрос, что в современных ценностях россиян исходит от социокультурной особенности России, а что от специфики её прошлого исторического пути (в частности, исследователи отмечают господство в России установок социокультурного тради-ционализма1) и тех повседневных трудностей, с которыми россияне сталкиваются сегодня. В рамках обозначенного подхода правомерно говорить о сосуществовании оппозиции «современность» и «традиция» как основополагающей характеристике российского общества. Это вызывает вопрос, каково же соотношение этих полюсов в повседневности. Заметим, что реальность повседневности в сегодняшней России не монолитна, и в этом плане правы те авторы, которые отмечают острое противоречие современности и традиции, могущее привести к негативным последствиям. А.С. Ахиезер2, например, делает вывод, что уникальным в России является нахождение преобладающего большинства россиян в «промежуточном» состоянии между современностью и традицией, что выступает наглядным проявлением «промежуточного» характера не только России, но и всей современной эпохи. Можно высказать гипотезу о том, что повседневность сегодняшнего российского общества представляет собой качественный синтез прямо противоположных и, на первый взгляд, не сочетаемых между собой элементов. Иными словами, рациональность, доведённая до своих «несоизмеримых» (Фейерабенд) пределов, характеризует эту её особенность. Следовательно, сохраняется всё тот же российский маятник «вызова и ответа», колеблющийся между крайностями общественных движений.
Могут ли идейные установки, столетиями определявшие реальность России, ис- чезнуть бесследно? Думается, что вряд ли. Следует согласиться, что специфика сегодняшней российской повседневности обусловлена совпадением с реалиями советского периода или непосредственно связана с ними (существование опасно низкого уровня материального благосостояния значительной части социальных субъектов, доминирование в общественной ментальности так называемых «понятий», а не закона и т. п.). Одновременно существует и ряд фундаментальных отличий рассматриваемых повседневностей, к которым можно отнести стремительное изменение устоявшихся норм повседневности, превращение в условность грани между повседневным и не повседневным.
Н. Элиас отмечает, что «структура повседневности не обладает характером более или менее автономной особой структуры, но является составной частью структуры данного социального слоя и – поскольку его нельзя рассматривать изолированно – частью властных структур всего общества»1. Важно понять, что в действиях власти в современной повседневности России видоизменилось. Уже в конце советской эпохи власть начинает сокращать всесторонний контроль повседневной жизни россиян, однако попытки грубого вторжения в повседневную жизнь человека остаются и сегодня.
Привнесённые современностью новые формы проявления власти в пространстве повседневной жизни неизбежно ведут к разрушению многих значимых для человека параметров, что, в свою очередь, может привести даже к дезорганизации повседневности. Новые практики воздействия на повседневность имеют властную составляющую – любое возобладание власти над человеком, любое наращивание властного потенциала расширяет возможности властной экспансии и служит обеспечению воспроизводства власти, тяготеющей к нравственным принципам традиционализма (авторитаризма). А поскольку природа традиционализма такова, что он неотделим от своекорыстия, следовательно, всегда стремится монополизировать окружающую повседневность, интерес власти в России подавляет инте- ресы групп и частных лиц. Авторитарность власти неизбежно влечёт дискредитацию индивидуализации, поэтому власть в России вольно или невольно выступает в роли блокиратора прогрессивных форм повседневности. В таких условиях проблема соотношения интересов власти и индивидуума принимает поляризованную форму. Двойственность российской власти, обусловленная сочетанием авторитарной практики с демократической риторикой, выявляет предельную остроту стоящих перед страной старо-новых проблем. Мы видим в этой двойственности преемственную связь с историческим российским традиционализмом и одновременно проявление исчерпанности данной традиции, её нежизнеспособности в современном мире. Происходит то, что можно, пользуясь терминологией физики, назвать «наведённой ценностью», по аналогии с «наведённым электричеством». Специфика российской повседневности заключается в том, что её верхние и нижние слои настолько резко отличаются уровнем и качеством жизни, а соответственно, интересами и потребностями, что образуют как бы два разных мира. Наряду с этим в России сосуществуют этнические, культурные, конфессиональные группы, идеологически противостоящие друг другу. Реально трудным делом оказывается эффективный поиск меры между ними – это вечная, никогда не имеющая окончательного решения задача. Она постоянно меняется, характер её зависит от масштабов и сложности рассматриваемого сообщества, от его динамики.
Власть, ориентированная лишь на традицию, полностью перерождается и перестаёт быть социально необходимым элементом социума, превращаясь во вредоносное образование на теле общества. Процесс осуществления подобного рода властного воздействия на повседневность и является сильнейшим фактором дезорганизации и, потенциально, распада общества. Лучшее, что может ожидать общество в подобной стратегии власти, – это адаптация общества к социокультурному противоречию ценой снижения эффективности его функционирования, что, видимо, и происходит в современной российской повседневности. Судьба этого распада, его движение в рамках дуальной оппозиции «преодоление распада – его усиление, вплоть до катастрофической необратимости» и должно быть выдвинуто в центр социально-философского осмысления и переосмысления.
***
Существование российской повседневности между противоположными полюсами «современность» и «традиция», их противоречивое становление постепенно превращаются в главный фактор развития российского общества. Если взять рассматриваемую дуальную оппозицию за объясняющую модель, то можно дать следующую интерпретацию сказанному. Полюса данной оппозиции предлагают две обобщённых, абстрактных программы развития повседневности, две соответствующих ценностных системы. Ведущие ценности не предрешены известными нам процессами (например, в форме «исторической необходимости»), но значимость их изучения в том, что все они являются факторами качественных сдвигов в цивилизации. И здесь необходимо определить, чей социальный интерес заложен и реализуется в этих программах. Неких социальных групп или неких представителей власти? Собственно, мы лишь пытаемся аргументировать мысль, что за той или иной программой, предлагаемой в пространстве повседневности социуму, вполне может стоять интерес только власти, и никакой иной. Поэтому формирование ценностей в сегодняшней социокультурной реальности следует рассматривать как постоянно нарастающую по сложности и важности проблему, подлежащую разрешению на массовом уровне. Происходящий процесс стимулируется поляризацией общества в планетарном масштабе, распространяясь в самые отдалённые страны и народы, активизируя их внутреннее напряжение, проблему выбора. Это коренным образом меняет цивилизационную картину человечества. Поляризация различных цивилизаций инициирует противостояние в рамках каждой цивилизации и одновременно вызывает диалог. Объективную оценку происходящих процессов призвана дать социальная философия.
Социально-философское осмысление стратегий власти в повседневности не даёт оснований рассчитывать на быстрое и чудодейственное разрешение наших проблем, но ориентирует на необходимость учиться жить, принимать решения в условиях высокой степени дезорганизации, недостаточной культурной интеграции, соединения подчас трудно совместимых нравственных идеалов. Теоретическое знание направлено на выявление и поддержку скрытых позитивных процессов, а это требует постоянного усиления критики власти, постоянного преодоления её собственной ограниченности. Следует обеспечить возвращение власти в повседневность там, где её присутствие необходимо, и элиминировать дезорганизующие эффекты властного вмешательства там, где это вмешательство пагубно для общества. Иными словами, если власть делает ставку на своё выживание в современной повседневности, она должна меняться таким образом, чтобы основой её воспроизводства становились не жёсткие технологии, а действие более сложных многоуровневых механизмов. Способна ли власть на подобное самообновление – большой вопрос. Однако без этого трудно представить себе переход от общества авторитарного к демократически выстроенному.