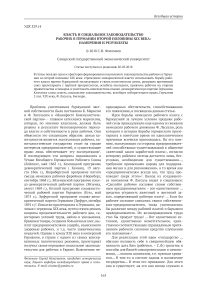Власть и социальное законодательство рабочих в Германии второй половины XIX века: намерения и результаты
Автор: Фоломеев Сергей Николаевич
Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc
Рубрика: Всеобщая история
Статья в выпуске: 3-1 т.20, 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье показан один из факторов формирования социального законодательства рабочих в Германии во второй половине XIX века: стремление монархической власти использовать борьбу рабочего класса против буржуазной эксплуатации в своих политических целях, разорвать временный союз пролетариата с партией прогрессистов, ослабить последних, привлечь рабочих на сторону правительства и монарха и уничтожить впоследствии социал-демократическую партию Германии.
Власть, социальное законодательство, всеобщее избирательное право, германия 2 пол. xix века, ф. лассаль, бисмарк
Короткий адрес: https://sciup.org/148313947
IDR: 148313947 | УДК: 329.14
Текст научной статьи Власть и социальное законодательство рабочих в Германии второй половины XIX века: намерения и результаты
ординарных обстоятельств, способствовавших его появлению, и посвящена данная статья.
Идеи борьбы немецкого рабочего класса с буржуазией за лучшие условия продажи рабочей силы принадлежали еще одному из вожаков немецкого рабочего движения Ф. Лассалю, роль которого в истории борьбы германского пролетариата в советское время по идеологическим причинам всячески принижалась. По его мнению, эксплуатации со стороны предпринимателей способствовал существовавший в обществе «железный закон заработной платы», согласно которому рабочим «всегда достается лишь, безусловно, необходимое для существования…, требуемое привычками народа для поддержания жизни и для размножения», в то время как «предпринимателям всегда все, что труд производит сверх этого»3. Выход из создавшегося положения Ф. Лассаль видел в следующем: «Сделайте рабочее сословие своим собственным предпринимателем – вот единственное … средство устранить железный и жестокий закон, определяющий рабочую плату! … Если бы рабочее сословие сделалось своим собственником-предпринимателем, тогда уничтожилось бы различие между рабочей платой и барышом предпринимателя. Их вознаграждением труда стал бы продукт труда! … Вот единственно истинное, единственно немечтательное, единственно соответствующее справедливым притязаниям рабочего сословия средство улучшения его положения»4.
Для реализации этой идеи «государство … обязано положить себе в священнейшую обязанность дать Вам (рабочим. – С.Ф.) средства и способы для Вашей самоорганизации и самопомощи, … помочь капиталом, т.е. нужным кредитом… В том-то и состоит задача и назначение государства… В этом его призвание. Для этого оно и существует; на это оно всегда служило и должно служить»5. Однако на практике все обстояло иначе. «Вмешательство государства происходило в интересах богатых классов… Но как скоро речь заходит о вмешательстве в пользу нуждающихся классов, в пользу бесконечного большинства – оно оказывается социализмом и коммунизмом! … Государство принадлежит Вам, господа, нуждающимся классам, а не нам, высшим сословиям, потому что из Вас оно и состоит! … Государство – это Вы, великая ассоциация беднейших классов!»6.
Эти наброски Ф. Лассаля достаточно противоречивы и отражали особенности развития немецкого рабочего движения. Утопичность их состояла в том, что Ф. Лассаль в то время верил в вероятность подчинения буржуазной государственной машины экономическим и политическим интересам рабочего класса. На определенную реалистичность его воззрений указывало то, что последующая практика немецкого рабочего движения показала некоторую возможность использования рейхстага и законодательных собраний отдельных земель для защиты интересов рабочего класса, не прибегая к насильственным формам борьбы. В конце своей жизни это был вынужден признать и Ф. Энгельс: «История… совершенно изменила те условия, при которых приходится вести борьбу пролетариату. Способ борьбы, применявшийся в 1848 году, теперь во всех отношениях устарел… Ирония всемирной истории ставит все вверх ногами. Мы, «революционеры», «ниспровергатели», мы гораздо больше преуспели с помощью легальных средств, чем с помощью нелегальных или с помощью переворота»11. Это было вызвано наметившейся тенденцией уменьшения степени политического господства буржуазии. По мнению Ф. Энгельса, в развитии буржуазии наступил «поворотный пункт», после которого «она теряет способность к исключительному политическому господству; … ищет себе союзников, с которыми, смотря по обстоятельствам, она или делит свое господство, или уступает его им целиком»12. Эти мысли Ф. Энгельса в значительной степени совпадали с приведенными более ранними высказываниями Ф. Лассаля.
С экономическими воззрениями Ф. Лассаля о возможности с помощью рабочих производственных ассоциаций уменьшить степень эксплуатации трудящихся масс в определенной степени был согласен и К. Маркс, который делал отсюда далеко идущие радикальные выводы. Появление предприятий ассоциированных индивидов К. Маркс расценивал как «упразднение капитала как частной собственности в рамках самого капиталистического способа производства… Это – результат высшего развития капиталистического производства, необходимый переходный пункт к обратному превращению капитала в собственность производителей, но уже не в частную собственность разъединенных производителей, а в собственность ассоциированных производителей, в непосредственную общественную собственность» 13. В середине XIX века в Германии зародились и стали играть заметную роль райффейзеновские крестьянские кредитные кооперативы (Ф. Райффейзен – идеолог и практик сельскохозяйственной кредитной кооперации в Германии. – С.Ф .), ссудо-сберегательные товарищества и народные банки, созданные теоретиком и организатором городского кооперативного движения Ф. Шульце-Де-личем14. Однако их деятельность расценивалась марксистами как оппортунистическая.
Как совершенно справедливо отмечал В.Д. Зотов, «в господствовавшем в СССР марксизме мысль о возможности появления каких-либо форм общественной собственности в рамках капиталистического способа производства решительно отвергалась»15. Не менее кощунственной с точки зрения ортодоксальных марксистов была мысль об определенном совпадении по ряду вопросов воззрений классиков марксизма и Ф. Лассаля.
Призывая к урегулированию отношений между предпринимателями и рабочими при экономической помощи государства, Ф. Лассаль имел в виду прежде всего создание множества частных свободных ассоциаций, связанных между собой «союзами кредита и взаимопомощи». Он подчеркивал, что «ничего не говорил об одной большой организации, которую, конечно, можно бы рассматривать, как государственное предприятие… Я имел в виду особые, независимые друг от друга общества, а не одну охватывающую все государство ассоциацию»16. Однако позже Готская программа немецкой социал-демократии, воспроизводившая многие теоретические положения Ф. Лассаля, четко и недвусмысленно указывала на необходимость социалистической организации труда во всем обществе. В качестве подготовительной меры «к разрешению социального вопроса, социалистическая партия Германии требует устройства социалистических производительных товариществ при содействии государства и под демократическим контролем трудящегося народа. Производительные товарищества должны быть призваны к жизни в промышленности и земледелии, в достаточно крупных размерах, чтобы из них выросла социалистическая организация всего труда» 17.
Если эта задача не будет решена, тогда, по мнению Ф. Лассаля, «нам предстояло бы очутиться через несколько десятков лет в разгаре пролетарской революции и самим пережить ужасы июльских дней! (революции 1848 г. – С.Ф.). Но мы не допустим этого; этому не бывать! Но потому-то и нужно вовремя открыть клапан, чтобы предупредить взрыв»18. Эти опасения Ф. Лассаля в полной мере разделял и канцлер Германии князь Отто фон Шенхаузен (Бисмарк), на которого оказали большое влияние теоретики школы «государственного социализма» А. Вагнер и А.Э. Шеффле. В частности, А. Вагнер в своей работе «Grundlegung der politischen Okonomie» считал, что современное народное хозяйство базируется на трех различных принципах – частнохозяйственном, общественно-хозяйственном (добровольном и принудительном) и каритативном (благотворительная система). По его мнению, особое значение имело принудительное общественное хозяйство (или государственное), которое, не руководствуясь принципом получения наибольшей прибыли, как частнохозяйственное, ставит задачи содействия благосостоянию населения через развитие производительных сил нации. А. Вагнер считал необходимым и неизбежным рост системы общественно-принудительных хозяйств за счет частных хозяйств, не допуская в то же время полного уничтожения собственности на землю и средства производства, находя институт частной собственности полезным для развития общества. Каритативная же система призвана была восполнить недостаточность частнохозяйственной и государственной систем и была нацелена на борьбу с бедностью и нищетой 19.
В наследство от своих политических предшественников Бисмарк получил набиравшее силу либеральное движение, выступившее с 1858 г. с либерально-демократических позиций против реакционного курса правительства, и формировавшееся рабочее движение. С момента возникновения «Национального Союза», а затем и прогрессистской партии (1861 г.), немецкая либеральная буржуазия начала усиленную агитацию среди рабочих в пользу обществ самообразования, которые уделяли большое внимание вопросам либерально-демократической политики. Немецкие либералы, в условиях неразвитости рабочего движения и отсутствия резких классовых противоречий, делали все, чтобы привлечь на свою сторону рабочие массы и сделать пролетариат своим союзником в борьбе против реакции, преследуя при этом собственные экономические и политические интересы. И это им в значительной степени удалось. Лишь к концу 60-х гг. XIX в., отражая интересы растущего и набиравшего силу рабочего движения, наиболее радикальные представители рабочих кружков самообразования предъявили к руководству прогрессистской партии два требования, которые выдвигались в качестве основы дальнейшего сотрудничества: 1) совместные действия в защиту всеобщего избирательного права, введенного 8 апреля 1848 г. и отмененного 30 мая 1849 г.; 2) изменение системы членских взносов, дававших возможность доступа рабочим в «Национальный Союз». Оба эти требования преследовали цель более активного участия рабочих в политике. Но руководство прогрессистской партии их отклонило. Как отмечал впоследствии Э. Бернштейн, прогрессисты «оттолкнули от себя рабочих гораздо ранее, чем возникла серьезная противоположность интересов, которая могла бы послужить к тому поводом»20. В результате в 1862 г. в Лейпциге Россмеслером, Фрицше и Фальтейхом было основано самостоятельное рабочее общество, враждебно настроенное по отношению к прогрессистам, а с 23 мая 1863 г. – «Всеобщий Германский Рабочий Союз», во главе которого встал Ф. Лассаль. Через три месяца (в конце августа 1863 г.) в рядах «Союза» было около 900 членов, а через год, в момент смерти Ф. Лассаля, «Союз» имел отделения в 25 городах и насчитывал всего 4.610 человек, представлявших прежде всего наиболее развитые в промышленном отношении части Германии – Рейн и Саксонию, и такие города, как Гамбург, Кельн, Лейпциг, Дрезден, Золинген, Майнц, Берлин и т.д. Как отмечал исследователь рабочего движения на Западе, один из руководителей «экономизма» в России С.Н. Прокопович, «неуспех социалистической агитации Лассаля обусловлен был тогдашней неразвитостью экономических отношений в Германии. Агитация его была рассчитана на рабочих крупной промышленности, развитой тогда крайне слабо»21. В силу этого не могло быть и речи о самостоятельной рабочей политике. Как подчеркнул С.Н. Прокопович, «рабочая партия принуждена была, - если она не хотела ограничиваться одной только пропагандой социалистических идей, - занять место в хвосте или либеральной или консервативной партии. Неустанная борьба с прогрессистами с одной стороны, стремление к ускорению избирательной реформы – с другой, определили союзника «Всеобщего Рабочего Союза»22.
Положение правительства было отчаянным. Ему необходимо было освободиться от прогрессистской оппозиции, имевшей благодаря 3-классной консервативной избирательной системе подавляющее большинство в прусском ландтаге. Единственным средством было демократическое изменение избирательного законодательства. Правительство рассчитывало, что тем самым внесет раскол в объединенные силы рабочих и прогрессистов и ослабит оппозицию. Э. Бернштейн писал, что «Открытое письмо» Ф. Лассаля, в котором он призывал к созданию самостоятельной рабочей партии, фактически отчасти служило делу реакции23. Либеральная оппозиция была столь сильна, что еще задолго до агитации Ф. Лассаля из лагеря консерваторов поступали предложения заключить союз с представителями «последовательной демократии» против либералов. После внушительной победы последних на выборах 1862 г. консерваторы высказались в пользу всеобщего равного избирательного права24. В этих условиях правительство рассчитывало реформой избирательной системы существенно ослабить прогрессистов и привлечь на свою сторону рабочих. В 1866 г. Бисмарк в своих письмах отмечал: «Прямые выборы и всеобщее избирательное право я считаю большей порукою за консервативное направление, чем всякое искусственное избирательное право, рассчитывающее на искусственное большинство… Мое убеждение, что искусственная система не прямых и классовых выборов гораздо более опаснее, так как она мешает соприкосновению высшей власти со здоровыми элементами, составляющими ядро и массу на- рода, - основано на долгом опыте. В стране с монархическими традициями и лояльным образом мыслей всеобщее избирательное право приведет, устраняя влияние либеральных буржуазных классов, к монархическим выборам… В Пруссии девять десятых народа верны королю и лишены возможности высказать свое мнение лишь искусственным механизмом выборов»25. О «сродстве крайних партий» - рабочей и консервативной – говорил в конце своей жизни и Ф. Лассаль26.
Один из вождей германской социал-демократической партии А. Бебель на конгрессе в Кельне в 1893 г. так характеризовал тогдашнее поведение либералов: «Когда в 1862-66 гг. либерализм вел трудную борьбу с Бисмарком, в то время, когда возбуждение было так велико, что многие высокопоставленные лица думали, что около памятника Фридриху Великому будет поставлена гильотина; в то время, когда даже Бисмарк, по его собственному признанию, боялся, что дело дойдет до революции и его ждет участь Стаффорда, - который, как известно, был казнен в 1641 г., как враждебный народу министр Карла I-го английского… На общем собрании Национального Союза в 1863 г., на котором присутствовал также И. Микель (депутат рейхстага, представитель национал-либералов. – С.Ф .), этот последний произнес речь, смысл которой сводился к следующему: господа в Берлине должны быть осторожны и не очень натягивать лук, иначе мы нашлем им на шею рабочих, и тогда их может ждать участь Бурбонов!…»27.
Добившись своей цели – ослабив партию прогрессистов – правительство Бисмарка повело наступление против социал-демократов, не обнаруживших желания сотрудничать с властью. В 1873 г. Бисмарк внес в рейхстаг проект закона, который устанавливал уголовное наказание за нарушение найма, стремясь ликвидировать таким образом свободу стачек. В том же году был внесен проект закона о печати, согласно которому тюремным заключением до 2 лет наказывались выступления в печати против семьи, собственности, всеобщей воинской повинности и других основ государственного порядка, подрывавшие нравственность, любовь к отечеству и т.д. Кроме того, считались преступными действия, разрушавшие основы буржуазного порядка, оправдывавшие их, считавшими их достойными подражания и уважения. Рейхстаг отверг оба законопроекта. Повторная попытка протащить эти законопроекты через рейхстаг, предпринятая в 1874 г., также провалилась. Последовавшие затем полицейские преследования (эра Тессендорфа) только сплотили лассальянцев и эйзенахцев и в конечном итоге привели к созданию единой германской социал-демократической партии в мае 1875 г. на съезде в Готе. Последовавший затем закон против соци- алистов, на долгие годы запретивший деятельность социал-демократических организаций, не привел к исчезновению партии, изменившей принципы организационной работы. В своей тронной речи в 1880 г. император Вильгельм I вынужден был признать: « Мы хотим подавить социал-демократию, но мы хотим признать ее правильное звено» 28. Это указание монарха, совпадавшее со взглядами самого Бисмарка, нашло последующее отражение как в политике правительства, так и в выступлениях имперского канцлера.
Не соглашаясь с излишне прямолинейной позицией некоторых консерваторов, в своей речи на заседании рейхстага 12 июня 1882 г. Бисмарк отметил: «Я хочу еще коснуться упрека в социализме. Социалистичны многие меры, принятые нами для блага страны, и в нашей империи государство должно будет усвоить себе еще несколько больше социализма. Мы должны будем реформами идти навстречу социалистическим требованиям, если только хотим держаться той мудрой политики, которой следовало в Пруссии законодательство Штейна и Гарценберга по отношению к освобождению крестьян. Те законодательные мероприятия, отнимавшие блага у одних и отдававшие их другим, также были социализмом, даже гораздо большим социализмом, чем монополия. Я рад, что этот социализм был осуществлен; благодаря ему мы имеем весьма значительное, свободное крестьянское сословие, и я надеюсь, что мы со временем достигнем подобного же результата и для рабочих, - не знаю только, доживу ли я до этого времени, ввиду того принципиального сопротивления, которое мне оказывается со всех сторон и которое меня так утомляет. Но вы будете вынуждены приписать государству несколько капель социального масла; сколько именно, я не знаю, но законодательство проявило бы, по моему мнению, большое нерадение к своим обязанностям, если бы оно в области рабочего вопроса не стремилось к той реформе, начало которой мы теперь вам предлагаем. Социалистической мерой было восстановление свободы крестьян, социалистична всякая экспроприация в пользу железных дорог…; социалистично все призрение бедных, обязательное посещение школы, проведение дорог, т.е. принудительное проведение дорог, заставляющее меня на моем участке земли заботиться о состоянии дороги для проезжающих. Все это социалистично; я мог бы еще долго продолжать этот список, но если вы думаете кого-нибудь запугать словами «социализм» или вызвать какие-либо призраки, то вы стоите на такой точке зрения, от которой я уже давно отказался, и отказ от которой настоятельно необходим для всего имперского законодательства»29.
В другом своем выступлении на этом же заседании, полемизируя с депутатом Е. Рихтером, Бисмарк сказал: «Я хочу ответить на важнейший вопрос, которого он коснулся в своей речи. Вопрос этот – право на труд. Да, я, безусловно, признаю право на труд и буду настаивать на нем, пока останусь на этом месте. И я стою при этом не на точке зрения социализма, который будто бы только в министерстве Бисмарка получил свое начало, но на почве прусского земского права… Разве не признано в прусском земском праве право на труд? Разве это не вытекает из всех наших обычных отношений, что человек, который обращается к своим согражданам и говорит: я здоров, хочу работать, но не могу найти работы, - что этот человек вправе сказать: дайте мне работу! и государство обязано дать ему работу?! Предыдущий оратор заметил, что государству пришлось бы вести крупные предприятия. Да, оно это уже делало в трудные времена, как в 1848 г., когда безработица и недостаток в деньгах приняли крупные размеры… Если наступят подобные же тяжелые обстоятельства, то, я думаю, государство и теперь обязано, и задачи государства так обширны, что оно может выполнить эту обязанность – дать работу тем гражданам, которые не могут ее найти. Оно может производить работы, которые в обычное время по финансовым соображениям, может быть, и не были бы исполнены; я имею в виду прорытие больших каналов и тому подобные полезные мероприятия»31.
В конце 1880-х годов в Германии произошел резкий рост забастовочного движения. Бисмарк считал, что в этих условиях правительство должно действовать не только репрессивными мерами, но и заботиться о социальном обеспечении трудящихся, выбивая из рук рабочих вожаков сильное пропагандистское оружие. Весной 1889 г. во время 150-тысячной забастовки в Вестфа- лии кайзер постарался выступить в роли посредника, примиряющего рабочих и предпринимателей. Вильгельм II писал в своих мемуарах: «На основании всех поступивших в течение весны и лета донесений накопился материал, свидетельствующий, что не все в порядке в промышленности. Многие требования рабочих имели свои основания и должны были быть подвергнуты благожелательному рассмотрению как со стороны работодателей, так и со стороны властей… Во мне созрело решение созвать коронный совет и привлечь к участию в совещании работодателей и рабочих для рассмотрения под моим личным руководством рабочего вопроса… Я настаивал на своем предложении, приводя принцип Фридриха Великого: «Я хочу быть королем бедняков». Это мой долг – позаботиться об используемых индустрией детях моей страны, защитить их силы и улучшить условия их существования»32. Бисмарк выступил против каких-либо уступок, однако Вильгельм II потребовал улучшить условия труда, сократить продолжительность рабочего времени и повысить зарплату.
Отказ кайзера продлить в 1890 году «исключительный закон» вовсе не означал его симпатий к социал-демократии. Наоборот, он предлагал принять решительные меры для подавления забастовочного движения. Об этом в 1899 году писал близкий к императору граф Филипп Эйленбург статс-секретарю МИДа князю Бернгарду Бюлову: «Когда телеграф сообщил о рабочих волнениях в Аугсбурге и других местах… телеграмма агентства Вольфа очень взволновала императора. Он чрезвычайно серьезно отнесся к рабочим волнениям и был чрезвычайно доволен. «Это хорошо, - говорил он, - пускай, пускай! Наступит момент, когда нужно будет действовать… Я тогда ни перед чем не остановлюсь, и даже министерство не удержит меня; оно просто полетит, если не пойдет со мной… Германская буржуазия совершенно обанкротилась! Правительство должно действовать, иначе все пойдет прахом!... Нам нужен закон, по которому можно было бы каждого социал-демократа сослать на Каролинские острова»… Было сказано, что есть надежда, что начнутся грабежи, и тогда, но только после того, как разграбят несколько сот буржуазных предприятий, надо будет произвести сильное кровопускание. Я сказал только, что у социал-демократов слишком хорошая организация и вряд ли теперь возможны грабежи в Берлине и в других городах. «Тогда не остается ничего другого, как объявить всеобщее осадное положение»,- ответил император»33.
Впоследствии Вильгельм II так охарактеризовал существовавшие разногласия между ним и Бисмарком по рабочему вопросу: «Бисмарк был слишком великий политик, чтобы не понимать важности рабочего вопроса для государства. Но он смотрел на все это дело исключительно с точ- ки зрения государственной целесообразности. Государство, по его мнению, должно заботиться о рабочих постольку, поскольку правительство найдет это необходимым. Об участии самих рабочих в деле социального законодательства почти не было речи…Попечение – с одной стороны, железный кулак – с другой, - вот в чем состояла социальная политика Бисмарка. Я же хотел завоевать душу немецкого рабочего… Я был преисполнен ясным сознанием своего долга перед моим народом, а следовательно, и перед трудящимися классами. Рабочие должны были получить то, что им следовало по закону и справедливости; при этом там, где кончалось желание и возможности работодателей, раз это было необходимо, рабочие должны были получить помощь со стороны государства… Я отчетливо понимал, что при безграничных требованиях социалистических вождей беспочвенные ожидания будут все больше и больше разгораться. Но именно для того, чтобы можно было убедительно и с чистой совестью выступить против неосновательных домогательств, нельзя было отказывать в признании законных требований и содействии им»34.
Эти пространные цитаты из речей Бисмарка и мемуаров Вильгельма II дают представление об обширных планах кайзера и серьезных намерениях тогдашнего канцлера Германии перехватить инициативу у лидеров немецкого рабочего движения в решении многих насущных социально-экономических вопросов с последующим запрещением и вытеснением социал-демократии с политической арены страны.
Ориентация на социальное законодательство в политической практике Германии возникла еще в 1869 г., когда было принято прусское фабрично-заводское законодательство, а 17 ноября 1881 г. кайзеровским посланием была обнародована большая программа социального обеспечения. В 1883 г. были созданы больничные кассы; в 1884 г. – страхование по несчастным случаям, при Фридрихе III и Вильгельме II последовали законы о пенсионном обеспечении. По мнению О.Ю. Пленкова, «объем бис-марковского социального законодательства являлся беспрецедентным; столь значительные социальные обязанности не брало на себя ни одно государство Европы. В результате Бисмарк во многом достиг того, что германское государство, несмотря на социал-демократическую пропаганду, пользовалось почти религиозным почитанием»35.
Подобная оценка социальной политики Бисмарка современным исследователем О.Ю. Пленковым нуждается в дополнении и корректировке со стороны одного из лидеров ревизионистского крыла немецкой социал-демократии конца XIX века Георга фон Фольмара. Последний более взвешенно оценил «вклад» Бисмарка в со- циальное законодательство Германии и объяснил истинные причины подобной «социальной заботы» правительства о рабочих. «Противники социал-демократии утверждают, что в области социальных реформ Германия идет впереди всех стран. Но это неверно. Верно лишь то, что германская система страхования рабочих, хотя и имеет крупные недостатки, бесспорно лучше таких же систем в других странах, так что последние в этом отношении могли бы у нее кое-чему поучиться. Закон о страховании дан был князем Бисмарком не столько из желания удовлетворить настоятельные требования рабочих, сколько из решительного намерения серьезно «заняться» социал-демократией, которая в то время находилась под действием исключительных законов; он хотел с ней серьезно сразиться или стереть ее с лица земли, или обратить ее в кучку безопасных мечтателей. Канцлер думал, что если он обратит миллионы рабочих в мелких рантьеров, ему тем самым удастся обратить их из противников существующего общественного и государственного строя в его защитников. Он думал сделать рабочих чуждыми как жизни, так и стремлениям их класса»36. Г. Фольмар считал, что «преследуемые правительством при издании закона о страховании рабочих политические цели не были достигнуты. Немецкий рабочий класс не дал себя покорить и приручить этой подачкой». Закон о страховании рабочих Г. Фольмар считал очередной уловкой правительства, «громкими словами», в то время как «если бы новый охранительный тариф вошел в силу в проектируемом виде, у немецкого рабочего класса было бы отнято больше, чем ему дал после многолетней борьбы закон о страховании»37. По мнению Г. Фольмара, «как ни важен вопрос об обеспечении рабочих на случай болезни, несчастья, старости, инвалидности, а также на время безработицы и затем обеспечения оставшейся после смерти рабочего семьи – эти важные задачи все-таки далеко не составляют главного содержания социальной политики. Сущность надлежащей социальной реформы должна скорее заключаться в том, чтобы рабочий класс приобрел все большее влияние на условия заработной платы и на способ производства»38. Будучи достаточно объективен при характеристике положения рабочего класса Германии и истинных намерений правительства страны в области социального законодательства, Г. Фольмар, предаваясь несбыточным иллюзиям, мечтал о том, чтобы «правительство и господствующие классы не оказывали никакого неразумного сопротивления стремлениям рабочего класса к освобождению; наоборот, нужно чтобы оно дало возможность беспрепятственно организоваться и развиваться его собственным силам. Свободная, законом гарантированная организация, которая даст рабочему классу могущественное положение, и законная действительная охрана рабочего класса – вот что необходимо, прежде всего»39.
Подводя итоги сказанному, следует отметить, что действительными причинами, побудившими германское правительство взять курс на разработку социального законодательства для рабочих, были опасения власти повторения событий 1848 г., быстрый рост численности рабочего класса, появление рабочих организаций и включение их в политическую борьбу совместно с буржуазией за демократические требования, стремление власти «расколоть» непрочный союз пролетариата и буржуазии против дворянства, ограничить влияние прогрессивной части буржуазии на политическую жизнь в стране, привлечь на сторону власти несознательные слои рабочих социальными «подачками», изолировать пролетариат от набиравшей силу социал-демократической партии. Изменив свою тактику, германская социал-демократия не только выжила в период действия «исключительного закона» против социалистов, но и расширила свои ряды и влияние в обществе, получив более 3-х миллионов голосов при выборах в рейхстаг в начале ХХ века. Рухнула политика «кнута и пряника» канцлера Бисмарка оставив после себя самое передовое для того времени социальное законодательство для рабочих. Германская социал-демократия не дала приручить себя власти. Реализовать планы Бисмарка и правительства в среднесрочной перспективе не удалось, однако в последующем это создало определенные предпосылки для постепенного перерождения значительной части германской социал-демократии в партию социальных реформ.
Список литературы Власть и социальное законодательство рабочих в Германии второй половины XIX века: намерения и результаты
- Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии//Соч. 2 изд. Т.4. С.419-459.
- Меринг Ф. История германской социал-демократии. Т.4. До выборов 1903 года. Пер. со 2-го нем. изд. М.Е. Ландау. М.: ГИЗ, 1921. С.383-391.
- Лассаль Ф. Гласный ответ Центральному Комитету, учрежденному для созвания общего германского конгресса в Лейпциге. М.: Книгоизд-во Е.Д. Мягкова «Колокол», 1905. С.20, 23. Там же. С.29. Там же. С.30-31. Там же. С.33,37. Там же. С.40. Там же. С.43-44. Там же. С.44. Там же. С.45-46.
- Маркс К., Энгельс Ф. Введение к «Классовой борьбе во Франции»//Соч. 2 изд. Т.22. С.533, 546.
- Маркс К., Энгельс Ф. Предисловие ко второму изданию «Крестьянской войны в Германии»//Соч. 2 изд. Т.16. С.416.