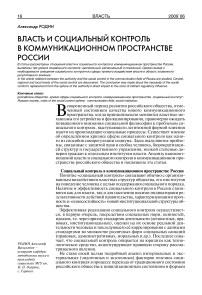Власть и социальный контроль в коммуникационном пространстве России
Автор: Родин Александр Васильевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Тема
Статья в выпуске: 6, 2009 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены отношения власти и социального контроля в коммуникационном пространстве России, выявлены три уровня социального контроля: центральный, региональный и локальный. Сделан вывод о необходимости смещения социального контроля из сферы прямого воздействия власти в область косвенного регулятивного влияния.
Российское общество, кризис сферы социального контроля, коммуникационное пространство, социальный институт
Короткий адрес: https://sciup.org/170164885
IDR: 170164885
Текст научной статьи Власть и социальный контроль в коммуникационном пространстве России
В современный период развития российского общества, отмеченный состоянием качества нового коммуникационного пространства, когда принципиально меняются властные механизмы его устройства и функционирования, правомерно ожидать повышенного внимания социальной философии к проблемам социального контроля, выступающего легитимной формой влияния власти на происходящие социальные процессы. Существует мнение об определённом кризисе сферы социального контроля как одного из способов саморегуляции социума. Здесь выделяются проблемы, связанные с защитой прав и свобод человека, бюрократизацией структур и государственного управления, низкой степенью доверия граждан к отдельным институтам власти. Анализу взаимоотношений власти и социального контроля в коммуникационном пространстве российского общества и посвящена эта статья.
Социальный контроль в коммуникационном пространстве России
Понятие «социальный контроль» связывают обычно с организованным воздействием властных структур общества, его институтов на поведение человека с целью поддержания социального порядка. Наличие и эффективность социального контроля в России становятся как для власти, так и для населения некими индикаторами результативности действий правительства, характеризующими прочность и «износостойкость» новой институциональной структуры общества.
РОДИН Александр Васильевич – аспирант кафедры методологии науки и прикладной социологии МГУ им. Н. П. Огарёва, г. Саранск.
Эффективная реализация социального контроля осуществляется, в первую очередь, посредством социальных норм, ценностей, идеалов, т.е. через призму стандартов деятельности (личностных, правовых, институциональных), оценки на их основе реальной деятельности человека и последующего её коррелирования с данными стандартами во множестве различных форм социальных санкций (правовых, административных, моральных и др.). Последнее означает, что социальный контроль опирается на юридизм как технологическое средство, акцентуирующее правовую сторону рассматриваемого явления.
Не ставя своей целью подробный анализ интернальных и экс-тернальных (эндогенных и экзогенных) факторов генезиса социального контроля в процессе перехода от традиционного состояния российского общества к цивилизационным состояниям и формам
(индустриальному, постиндустриальному и коммуникационному обществу), в контексте заявленной проблематики следует отметить, что сегодня фокус рассмотрения социального контроля переносится в плоскость гуманитаризации различных общественных практик.
Общее направление российских социальных практик определяется движением от плановой экономики к рыночной и от авторитаризма к демократии. Социокультурная специфика России связана с господством в ней особой модели взаимоотношений общества, личности и власти. Однако общественное сознание в сегодняшней России не монолитно, и в этом плане правы те авторы, и прежде всего А. Ахиезер1, которые говорят о противоречии традиционалистского и либерального начал как базовой характеристики российского общества. Положение осложняется наличием глубокого раскола между властью и обществом. Само понятие «власть» в этих условиях сводится к её персональным носителям, их личным качествам и характеристикам. Данная ситуация развивается в контексте конкретно-исторической реальности, которую сегодня переживает российской общество. В частности, в современном российском обществе активизируется формирование нового коммуникационного пространства, способствующего преодолению границ государственных субъектов и образованию транснационального коммуникационного пространства. В становлении коммуникационного пространства особую роль играет фактор позитивных перемен.
Процесс интенсификации коммуникаций не заканчивается становлением глобального коммуникационного пространства и не сводится к нему. Коммуникация развертывается во многих сферах, и прежде всего в технико-технологической, внося изменения в средства хранения, обработки и передачи информации, она изменяет инфраструктуру связи, компьютеризирует, телефонизирует, интернизирует общество. В таком контексте «коммуникация создаёт предпосылки для углублённого понимания движущих сил развития личности, общества», – подчерк ивает М. Э. Рябова2.
В коммуникационном пространстве происходят серьёзные изменения в осуществлении социального контроля. Их можно охарактеризовать, используя терминологию И. Валлерстайна, как «конец знакомого мира»3. Коммуникация как материальный процесс состоит в создании глобальной инфраструктуры. Коммуникационные технологии проникают во все сферы общественной жизни, но наиболее заметно их влияние в политике. На рубеже ХХ–ХХI вв. общественно политический лексикон обогатился понятиями «электронное правительство», «компьютеропо-средованная политическая коммуникация», «киберполитика», «кибердемократия», «коммуникационная демократия» и др. Хотя российское коммуникационное пространство продолжает пребывать в состоянии «догоняющего развития», расстояние между «Ахиллесом» и «черепахой» (вспомним знаменитую апорию Зенона) в последние годы сократилось и продолжает уменьшаться. М.С. Вершинин4 отмечает: «Активно внедряясь в сферу политики, новые информационно-коммуникационные технологии не только качественно изменили старые представления, установки, стереотипы, но и сломали многие формы поведения, модели взаимоотношения между политическими институтами и индивидами». Из этой цитаты вытекает важный вывод, что на сегодняшний день ставится главная экзистенциональная задача: выжить в принципиально новых условиях, войти в мировую систему в качестве самостоятельного общества, способного сохранить жизнеспособность в динамичном глобализирующемся мире.
В сфере взаимоотношений «власть – личность – социальный контроль» коммуникация вносит изменение в содержание самой деятельности, представляет собой интеллектуально-гуманистическую перестройку жизнедеятельности человека и общества на основе использования коммуникации как ресурса развития, что само по себе представляет сложный и порой противоречивый процесс. Специфика реформирования российского общества обусловливает определение общих черт и свойств той модели социальной организации, в соответствие с идеалами которой идёт поступательное движение социума, осуществляются прогрессивные социальные трансформации.
Проблема уровней в социальном контроле
Р. Парк1 понимал социальный контроль как целенаправленное влияние общества на поведение индивида, обеспечивающее нормальное соотношение между социальными силами, ожиданиями (эспектация-ми), требованиями и человеческой природой. Следствием этого являются иерархически организованные «социальные порядки», образующие пирамиду, «основанием которой служит экологический порядок, а вершиной – моральный.
Теория власти, предложенная политической наукой, выделяет четыре уровня власти: мега- (международные, межгосударственные объединения), макро- (государство), мезо- (субъекты государства) и микроуровни (муниципии). Однако проблему уровней запутывает представление о том, что «макромасштаб примерно соответствует государственному или крупнорегиональному таксономическому уровню, мезомасштаб – уровням от группы экономических районов до области, микромасштаб – уровням не выше областного»2. Обращает на себя внимание в этой цитате смешение уровней: крупный регион относится здесь и к макро-, и к мезоуровням, а область – и к мезо-, и к микроуровням. Возникает противоречие: начиная с какого из описанных уровней возможно говорить о социальном контроле как общественном процессе и социальном контроле как средстве управления властей? В связи с этим закономерно появляется следующий вопрос: каково должно быть число управляемых объектов на каждом уровне социального контроля?
Возможно, выявленное противоречие является существенной причиной крупного недостатка институциональной системы социальных практик России – слабого контроля за соблюдением установленных норм и правового принуждения социальных субъектов к их выполнению. Следствием этой ситуации служит всё расширяющийся разрыв между формально-правовой базой социальных ин- ститутов и теми социальными практиками, в которых они реализуются. По мнению многих учёных3, в России происходит процесс институционализации неправовых (теневых и криминальных) практик, угрожающих перерождению сущности социального контроля.
Учитывая основной аспект рассматриваемой проблематики – существование коммуникационной экспансии на всех фронтах (социальном, технологическом, культурном и т.д.) – необходимо оценить угрозы, порождаемые коммуникационным пространством. В первую очередь можно выделить два основных объекта распространения данных угроз: личность и государство. Однако социальный контроль, осуществляющий также функцию социальной защиты, не нацелен на предотвращение данных опасностей и угроз: обычный человек может быть жертвой недобросовестных или просто равнодушных чиновников, авантюристов, мошенников, фирм, предоставляющих некачественные услуги, распространения заведомо ложной или неполной информации по каналам социальной коммуникации, а также может стать объектом манипуляции со стороны политических партий и т.п.
Обратная сторона широкого использования коммуникационных технологий таит опасность практически тотального социального контроля. Перехват писем, сбор частной информации о человеке, нарушение личного пространства, анализ мест посещения данного субъекта в коммуникационной сети, «выкладывание» различных, в том числе и недостоверных, данных позволяет манипулировать отдельным человеком и целыми группами людей.
Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что коммуникационное пространство в России имеет противоречивую природу и воплощает в себе дуальную оппозицию «старое – новое», служит одновременно продуцирующим социальный прогресс фактором и фактором, сдерживающим чрезмерно быстрые социальные изменения.