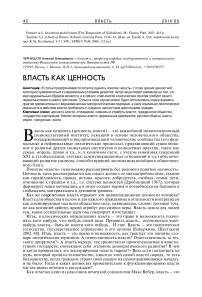Власть как ценность
Автор: Чернышов Алексей Геннадиевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Позиция
Статья в выпуске: 9, 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье предпринимается попытка оценить понятие «власть» с точки зрения ценностной категории применительно к современным условиям развития. Автор акцентирует внимание на том, что мир кардинальным образом меняется, и в связи с этим многие классические понятия требуют своего переосмысления и нового прочтения. Только в этом случае можно будет использовать новые форматы практик применительно к видоизмененным методологическим подходам, а саму социально-политическую реальность и действия власти приблизить к нуждам и ценностным ориентациям граждан.
Ценность власти, отчуждение, символы и атрибуты власти, гражданское общество, государство-корпорация, бизнес-интересы власти, формальная демократия, русская община, власть земли, "ресурсная" элита
Короткий адрес: https://sciup.org/170167622
IDR: 170167622
Текст научной статьи Власть как ценность
В ласть как ценность (ценность власти) – это важнейший цивилизационный социокультурный институт, лежащий в основе человеческого общества, поддерживающий и воспроизводящий человеческие сообщества (его формальные и неформальные политические процессы), продвигающий существование и развитие других социальных институтов и ценностных практик, таких как семья, мораль, право и т.д., и, в конечном счете, с учетом новейших тенденций ХХI в. (глобализации, сетевых, коммуникационных отношений и т.д.) обеспечивающий развитие социума, способствующий достижению всеобщего общественного блага.
Понятие «власть» невозможно рассматривать без родового понятия «ценность». Ценность здесь рассматривается как смысл жизни с ее мегапотребностями, такими как справедливость, правда, истина, красота, добродетель, свобода, семья, дети, отношение к предкам и т.д., т.е. система ценностей [Дробницкий 1967], которая формирует наши мотивации, а в итоге создает нормы и потребности на бытовом и глобальном, материальном и духовном уровнях.
Как же современная власть отражает эти цивилизационные ценности человека? Власть для общества в целом и для каждого гражданина в отдельности интересна не как доминирующая над всем обществом сила, нависающая, словно грозовая туча, не как внешний арбитр, яркий атрибут или символ веры. Власть ценна для людей тем, какие созидательные идеи она генерирует и отстаивает.
Итак, в классических определениях власть – это право и возможность подчинять кого-нибудь, что-нибудь своей воле. Проявить власть… подчиниться чьей-нибудь власти... быть во власти кого-нибудь... И еще. Власть – это политическое господство, государственное управление и его органы [Бакеркина, Шестакова 2002: 48]. Итак, власть – это право и возможность, как трактует это понятие словарь политических терминов. А ответственность власти? Ответственность за тех, «кого приручили?» А власть народа, так громогласно провозглашаемая в конституциях государств, считающих себя эталоном демократического развития? В чем и когда проявлялась эта декларируемая «власть народа?» Ведь если посмотреть на путь, который прошло человечество, никогда этой самой власти народа, то есть большинства, когда граждане строят свой социум на самоуправляющихся началах, и не было. Тогда о каких ценностях применительно к функционированию власти мы так рьяно печемся и рассуждаем?
Как отмечал один из классиков немецкой социологии Макс Вебер, власть – это возможность одного социального субъекта реализовать свою волю вопреки сопротивлению других участников политического действия [Вебер 2010]. Выходит, что само по себе наличие атрибутов власти является важным фактором развития. Но значит ли это, что как только власть становится политическим актором и у нее исчезает вариант семейного и духовного родства, она приобретает иные свойства, а значит и ценностные основания? Ведь вследствие развития патриархальной семьи, объединения семей и сформировалось общество, политические институты и само государство, а за ним – и политическая власть. При этом наблюдается «естественная» эволюция ее возрастания, когда трансформация политических институтов на протяжении демократической эпохи вручила президентам и парламентам такую власть, которой позавидовали бы средневековые бароны [Жувенель 2011]. Деспотическая власть отца – «примитивный» источник власти в конкретной семье. Но ведь и государство нередко прибегает к прямому насилию и принуждает людей подчиняться воле конкретных людей вне всякой логики и смысла, а значит вне какого-либо осязаемого ценностного начала. Правда, оно облекает государственное принуждение в добродетельные упаковки, о которых писал еще Никколо Макиавелли. И вот тут мы подходим как раз к самым важным аспектам, которые нам должны доказать, что власть имеет ценность, а не только цену. Власть может и должна выступать не только как система управления, принятия и выработки стратегических решений для общества в целом, но и как нравственный императив [Чернышов 2013]. Хотя, конечно, многим современным политикам, как бальзам, греет душу мысль Никколо Макиавелли о возможности власти пренебрегать моральными установками общества. Об этом красноречиво и недвусмысленно писал еще совсем недавно, в 1997 г., американский бизнесмен, основатель Макдональдса Рей Крок: «Что вы делаете, когда ваш конкурент тонет? Берете шланг с водой и всовываете ему в рот» [Финансы 2010: 212]. Вот так – незатейливо, просто, быстро и эффективно.
В реальной практике для построения перспективной модели развития одним банальным насилием не обойдешься. Любая с виду крепкая железобетонная конструкция рухнет, если, как писал тот же Макс Вебер, власть не будет базироваться на легитимности институтов, доверии конкретным лицам и иметь реальный авторитет среди граждан. А вот у Фридриха Ницше воля к власти еще и обязательна как неизбежная необходимость переоценки всех ценностей [Ницше 2005]. Иными словами, она должна задавать такой вектор развития, который бы отвечал чаяниям и запросам большинства. В этом залог ее собственного благополучия и долгожительства. Для граждан власть становится непреходящей ценностью только тогда, когда они верят власти. Когда они понимают, что, доверяя, а точнее, передоверяя часть своих полномочий и свобод конкретным людям и органам управления, они что-то получают взамен – безопасность, возможность самореализации, социальную справедливость и т.д.
В чем ценность власти применительно к современному этапу развития? Достаточность власти с точки зрения безопасности, в т.ч. охраны границ, выработки стратегии развития, обеспечения реализации данных планов. Вот, собственно, и все! Значительная часть полномочий по обустройству внутренней жизни в современных условиях должна принадлежать самим людям. Но власть, часто повторяя, как заклинание, тезис о неготовности граждан взять на себя ответственность за свою судьбу, что-де гражданского общества еще как такового не существует, грубо вмешивается в данный процесс и корректирует его «под себя». Как итог – формирование у населения потребительского отношения, когда люди ждут от власти манны небесной. Вообще порой оказывается, что современная власть – это битва за полную лояльность граждан путем подавления, подкупа и шантажа непокорных. Выходит, что тем, чем реально должна заниматься власть, она не занимается, зато влезает в те сферы, где люди справились бы самостоятельно. Власть из необходимого для развития атрибута становится головной болью, постоянной проблемой для общества [Сенокосов 2005]. Она набрасывает удавку на малый бизнес, занимается регламентированием систем образования и науки, мелочной опекой в других плоскостях человеческой деятельности. Безвластие недопустимо. Но тут есть вто- рая сторона медали. Наступает чрезмерность, избыточность власти. Расползание ее частей по всем каналам общественной жизни.
Власть никто и ничему не учит. Она ведь божество и поэтому продолжает фарисействовать [Империя фарисеев... 1994], пытается учить походя уму-разуму все общество скопом, не понимая потребности в коллективном разуме, не видя и не чувствуя тренда солидарного развития. Да и какое может быть понимание и сотворчество при ситуации, когда один гражданин получает 5 тыс. руб. в месяц, а другой – более 100 млн! Какой тут децильный или иной коэффициент для сравнения уровней жизни можно применять? Теория праздного класса американского экономиста и социолога Торстейна Веблена [Веблен 2010], которую он вывел и описал на рубеже ХIХ–ХХ веков, показав «крутой замес» правящей верхушки на демонстративном потреблении и денежном уровне жизни, продолжает сегодня самым активным образом развиваться вширь и вглубь.
Порой бессмысленное существование человека в нынешних условиях отражает явно устаревшие форматы современных политических практик. Как следствие, народ превращается в массы, в быдло в форме непостоянных и разрастающихся толп [Канетти, Московичи 2009; Канетти 2014], тем более, что это все вполне «объективно» при условии развития массового сознания и управляемого хаоса.
Сфера приложения сил и возможностей обыкновенных людей, писал в свое время Ч.Р. Миллс, оказываются во власти таких внешних сил, которые они не могут ни понять, ни подчинить себе [Миллс 2007]. Добавим к этому: и, соответственно, адекватно реагировать на происходящее, потому что саму власть зачастую захлестывает неуемное желание подчинить себе все и вся.
Демократические процедуры заменяются их формальным суррогатом, о котором очень ярко и убедительно писал русский философ Иван Ильин, подчеркивая пагубность «формальной демократии». В 1951 г. в своей работе «Предпосылки творческой демократии» он отмечал опасность политического течения, которое назвал «фанатизмом формальной демократии» [Ильин 2007: 177]. Он писал о формальной демократии, которая сводит все государственное устройство к форме всеобщего и равного голосования, отвлекаясь от качества человека и от внутреннего достоинства его намерений и целей, примиряясь со свободою злоумышления и предательства, сводя все дело к видимости «бюллетеня» и к арифметике голосов (их числу).
В нашем современном контексте можно наблюдать выявление количественного уровня голосов, но его соответствие реальному волеизъявлению граждан и их ценностной ориентации вызывает большие сомнения. В своей монографии «О сущности правосознания», в главе «Аксиомы власти» философ был еще более категоричен в оценке ценностных оснований власти. Он писал, что авторитет положительного права и создающей его власти покоится не только на общественном сговоре, не только на полномочии законодателя, не только на внушительном воздействии приказа и угрозы, но прежде и глубже всего на духовной правоте, или, что одно и то же, на содержательной верности издаваемых повелений и норм. Именно эта духовная верность творимого права и власти является всегда лучшим залогом того, что их авторитет будет действительно признан правосознанием народа и что их политическая прочность соединится с жизненной продуктивностью. И далее он говорил о том, что власть связана распределяющей справедливостью, и корыстное попирание ее никогда не проходит ей безнаказанно [Ильин 2001: 264, 277].
А вот мнение другого нашего соотечественника. Русский историк, лингвист, публицист, один из основателей и идеологов славянофильства Константин Аксаков писал более 100 лет назад о том, что государство стремится к внешней правде, и потому первое, что оно создает, – это форма, регламент, извне налагаемые на человека... Но торжество такого начала государственного – есть полнейшее уничтожение нравственного начала в человеке… Торжество внешней правды есть гибель правды внутренней, единой, истинной, свободной правды [Аксаков 1861: 286]. И он же говорил о том, что правительство постоянно отнимает внутреннюю общественную свободу [Ранние славянофилы 1910: 88]. Вообще, внимательно и глубоко прорабатывая труды зарубежных авторов, нам бы сегодня очень не помешало уделить особое внимание отечественным авторам – взять в руки книги русских поли- тологов, социологов, философов, экономистов и историков разных эпох, чтобы понять ментальные основания именно российского общества и, соответственно, смоделировать, какая власть ему нужна. А то мы в последние десятилетия слишком уж увлеклись западными и вообще иностранными трафаретами, стараемся привнести чужой опыт и скопировать его в качестве эталона для подражания. А он не приживается, превращая начинания реформаторов в причудливые гротескные формы.
Вообще власти нужно (если есть реально такая мотивация) еще раз пропустить через себя несколько важнейших смыслов развития нации. Это то, что Россия – отдельная цивилизация и ни с кем смешиваться ей не надо. Она не буфер между восточными и западными ценностными построениями. Она самостоятельная ценность. И еще соображение в этой связи, более символического плана. Не зря орел на гербе России смотрит в обе стороны, т.к. Россия находится в зоне цивилизационного разлома.
Власть, стремящаяся к поддержанию институтов и демократических атрибутов любой ценой, убивает тем самым русский индивидуализм, ломает и уводит общество все дальше от истинных основ русской цивилизации. Они заключены в принципах и ценностях существования русской общины, выступающей против как огульноуравнительного коммунизма, так и против примитивно-меркантильного капитализма. Существо мирского общинного быта заключается в равном праве на землю всех членов общества пропорционально их рабочим силам, писал в конце ХIХ в. в своей статье князь Александр Васильчиков, русский экономист, один из зачинателей кооперативного движения в России. Но земля, однажды поделенная, разверстанная, возделывается, пашется, боронуется и косится отдельно каждым владельцем [Васильчиков 2013: 58]. Здесь заключается квинтэссенция того, что мы должны знать об общине применительно к современным реалиям. Именно в этом жизнеустройстве, построенном на самоуправляющихся началах, особо видна грань, отделяющая реальность существования властных институтов от их искусственных построений. Суть власти – знаковая. Как писал русский писатель Глеб Успенский, это «власть земли», т.е. первородности как эталона святости и символа веры. Это власть духовного начала над суетно-денежным ее проявлением. Хлебная цивилизация в противовес денежной цивилизации. Реально общинная в противовес формально парламентской. И как ни в какой другой стране, «крестьянская община в России имела исключительно властные права и свободы. Единовластие же давало царю уникальную свободу служить только своему народу». Царь мог все, но делал для защиты своего народа только то, что без него народ сделать не мог. Остальное делал сам народ, объединенный в общины [Мухин 2009: 32, 34]. Затем и в условиях самодержавия под влиянием модных веяний с Запада общину стали насильственно разрушать, надеясь, что их заменят формальные процедуры выборов и контроль со стороны центральных органов власти со звучным названием Министерство местных самоуправлений [Палеолог 2004: 210]. Не заменили, т.к. происходили «не от земли», шли не из глубинных основ народной жизни, а были привнесены сверху и извне.
Не санкции Запада и не «американский империализм» как таковой, а именно оторванность от земли, отсутствие реального хозяина – вот что, прежде всего, мешает российскому обществу гармонично развиваться и выстраивать настоящие демократические традиции, а вместе с этим – и систему власти в качестве естественного, а не формального атрибута.
И кто бы что ни говорил, и сейчас в крови у нас течет «общинный» уклад. Русский народ достаточно индивидуалистичен. Именно поэтому мы группируемся только в период великих бед, потрясений и глобальных проектов. Все остальное время мы отдаем бразды правления верховной власти, чтобы самим спокойно «трудиться на земле». Доверяем свои права другим. Но эти другие воспринимают это как слабость и пользуются этим по своему усмотрению. Потом странным кажется русский бунт, «бессмысленный и беспощадный». Но он не беспощадный, потому что просто прорывается накопившееся раздражение от унижения, причем ко вполне конкретной ветви власти или ее представителям. А у людей, несмотря ни на какие навязываемые извне схемы, главным девизом остается принцип солидарного развития, со- здающий основы для «фундаментальной справедливости». Это в нашей крови. В нашей ментальности. В нашем образе жизни. И возможно, это и есть то, чем мы могли бы поделиться с миром. Об этом уже говорят все активнее и на Западе [Сакс 2012: 67]. Раз так, то становится все более очевидным, что внедрение в стране ценностей «вульгарно-бандитского» либерализма, равно как и выстроенного тотального государственного доктринерства, пагубно сказывается на всей системе жизнедеятельности, ведет к реальному отчуждению власти от граждан, к все большей фрагментации сообщества не только по имущественному, но именно «кастовому» принципу, когда каждый «слой» общества начинает жить своей автономной жизнью и не пересекается на горизонтальном уровне с другими. Власть же функционирует «по понятиям». Ведущие эксперты подчеркивают тот факт, что реальная власть в разработке стратегических – да и просто государственных – решений перешла в руки полутеневых и теневых коалиций [Соловьев 2013: 85].
Власть и общество – почему практически всегда, за редким исключением, эти понятия противопоставляются? Для России власть всегда имела высший сакральный смысл. Власть отца, власть верховного правителя – царя-батюшки. Сегодня же насильственно внедряется схема власти, при которой управляет всем процессом топ-менеджер с ярко выраженным бизнес-уклоном (управление финансовыми потоками), для которого бизнес-мотивация и сам принцип корпоративного использования власти становятся главной и непреходящей ценностью. Место гражданских добродетелей занимает, в общем-то, примитивный коррупционный интерес.
Власть отца… Власть денег... Власть должности… Власть ради реализации своих комплексов... Возврат к полноценной власти и понимание власти как ценности означает движение к общине, к самоуправлению, сотрудничеству и сотворчеству, но никак не к тотальному государству и бутафорскому понятию демократии, когда везде видны лишь атрибуты вседозволенности одних и расставленные «маячки» тотального контроля для других.
Мы пишем о власти. А сама власть об этом знает? Вероятно, догадывается, но вряд ли воспринимает это достаточно серьезно. Разве только возникает досада в ответ на критическое слово, написанное независимыми экспертами, и суждения рядовых граждан. И пока будет сохраняться такая ситуация разрыва независимого экспертного сообщества, власти и граждан, об обществе знаний и меритократии как власти самых мудрых и заслуженных членов общества можно будет говорить лишь в теоретическом плане, спорить о понятиях в научных кругах и на кухнях, вести досужие и теоретические разговоры о гибкой [Най 2006], мягкой и жесткой власти. Но какие понятия ни изобретай, а все равно в реальных вариантах мы существуем между кнутом и пряником.
Мантра власти... Главное заклинание – сохранить и не допустить внутренней дестабилизации. Но это верхняя часть айсберга. Остальное скрыто внизу, под «толщей воды». Мы-то понимаем, что никакая внутренняя дестабилизация, даже при самом сильном давлении извне, невозможна, если нация сплочена, если есть откровенный и честный диалог между властью и обществом, социальное партнерство и взаимная ответственность между бизнесом и гражданами. Итак, власть как клинический диагноз маниакальности и безумия [Барзилов, Чернышов 2005], культивирования комплексов и фобий, или власть как призвание быть лидером? И опять мы возвращаемся к извечному вопросу о роли личности в истории. Красивые слова: «правитель – ставленник народа». Защитить правителя, подставить ему свое плечо может только собственный народ. В противном случае он неминуемо скатывается к роли марионетки в чужих руках. Именно поэтому самостоятельных и непокорных (Милошевич, Каддафи и мн. др.) уничтожали. Настоящая роль лидера – воспитывать не удобного преемника себе, а достойную смену.
Современная власть – это просто та, которая находится «здесь и сейчас». Она должна быть современной, значимой, актуальной силой, в которой нуждались бы, деятельность которой не вызывала бы сомнения с точки зрения генерируемых принципов жизнедеятельности, поставленных целей и путей их достижения с учетом мировых тенденций развития, а не укрываться за крепостной стеной. Поэтому власть будет достойна своей роли, если будет идти из глубины народа, из лучших ее представителей.
Политик, представитель властного бомонда — сегодня это порой двойной или даже тройной агент — агент влияния, прежде всего, того, кто дает деньги или от кого зависит сохранность его накоплений. Агент влияния, но не с точки зрения продвижения интересов своих граждан. Отсюда тотальное отчуждение, включающее давление интересов и влияние извне. На первом месте таких политиков — интересы собственного бизнеса (теперь уже и в международном, геополитическом масштабе), а потом уже, по остаточному принципу, интересы самих людей.
Итак, можно спросить себя: возможны ли наяву, а не в сказке честная власть и честный бизнес? Нет!? Тогда что мы анализируем? Изучаем то, чего нет в реальной практике. Значит, сегодня наука во многом оценивает виртуальный, искусственный процесс. В этом смысле мы должны сделать ревизию понятия «власть» с точки зрения современного понимания сущностного и ценностного начала, а не уповать на определения власти, которые оставили нам предшественники.
Это тем более важно с точки зрения геополитической развертки и новых практик развития мира. Нужно добиваться прозрачности и ответственности во всемирноэкономических центрах принятия решений [Бек 2007]. Это тем более важно при явно выраженных тенденциях по переходу власти от формулы «государство-учреждение» к формуле «государство-корпорация». Современная Украина в этом смысле — очень характерный тому пример. При внешне сохраняющихся традиционных государственных и политических институтах и национальном суверенитете значительное место в системе управления занимают установки внешних, явных и скрытых, экономических интересов мировых корпораций. А властные построения внутри государства как производная такого давления имеют у ключевых политиков зачастую чисто материальный мотивационный стимул. Таким образом, многие национальные государства остаются на политической карте мира все в более в номинальном значении. Раз так, то и атрибуты власти внутри становятся все более формальными.
Это, в свою очередь, предполагает (требует) от ученых-исследователей подойти к изучению понятия «власть», исходя из тех глубинных процессов, которые протекают внутри. Не только в классическом для нас понимании, к которому мы все так привыкли. Иначе будет трудно понять реальные современные процессы во взаимоотношениях «власть — общество», что станет все активнее уводить наш поиск в сторону «обманок» и миражей. Да и само понятие «государство», которое сегодня так и не имеет однозначного понятийного аппарата с точки зрения международного права, показывает размытость границ ценностных оснований. А раз так, то и понятие «власть» утрачивает в этом смысле ареол святости и становится банальным средством захвата и удержания власти, своего доминирующего положения. Силой и любой ценой! Такая формула бытия власти лишает ее невинности и нравственного императива. Подлинно свободное общество — это возврат к самоуправляющимся, общинным вариантам развития. Порабощенное современной властью, накрытое колпаком транснациональных корпораций и конкретных мультиолигархов государство ведет своих подданных дружным строем к системе тотального отчуждения от самоуправляющихся, равноправных и справедливых начал жизнедеятельности.
Политика может двигать экономику, управлять армиями, партиями, парламентами и гражданами в отдельном царстве-государстве . Только все чаще и нагляднее в качестве основной мотивации конкретного политика выступает не интерес к защите и сбережению своих граждан, а личный, корыстный бизнес-интерес.
Мы живем в период ломки прежних устоявшихся канонов, норм поведения и условностей. Мы находимся в условиях транзита, когда при наличии внешне сохраняющихся форм и существующих практик в реальности начинают подспудно, а порой уже и совершенно открыто действовать другие «законы». Законы понятий денежной власти, которая пытается подстроить все общество, весь существующий социум под свои лекала, под свои «денежные» принципы существования. Понятие «власть» становится эквивалентом человека, размахивающего большим мешком с деньгами и желающего таким нехитрым способом оглушить собеседника, сокрушить все вокруг и заставить его повиноваться на веки вечные. При этом мы описываем эти явления прежними формулировками. Вероятно, нужен новый понятийный аппарат для отражения нового смыслового содержания понятия «власть». И при этом – объемный, трехмерный взгляд [Льюкс 2010], чтобы можно было бы сделать попытку определиться в ценностных основаниях власти как с точки зрения понятий, так и исходя из реальной жизни.
Список литературы Власть как ценность
- Аксаков К.С. 1861. Полное собрание сочинений. Т.1. М. 569 с.
- Бакеркина В.В., Шестакова Л.Л. 2002. Краткий словарь политического языка. М.: АСТ, Астрель, Русские словари. 288 с.
- Барзилов С.И., Чернышов А.Г. 2005. Безумство власти. Провинциальная Россия: двадцать лет реформ. М.: Ладомир. 298 с.
- Бек У. 2007. Власть и ее оппоненты в эпоху глобализма. Новая всемирно-историческая экономия. М.: Прогресс-традиция. 464 с.
- Бодрийяр Ж. 2006. Общество потребления. Его мифы и структуры. М.: Культурная революция. 269 с.
- Васильчиков А.И. 2013. Община против коммунизма. -Русская община. М.: Институт русской цивилизации. С. 57-59.
- Вебер М. 2010. Хозяйство и общество (пер. с нем., под научн. ред. Л.Г. Ионина. М.: Изд-во ГУ-ВШЭ. 560 с.
- Веблен Т. 2010. Теория праздного класса. М.: КД «Либроком». 308 с.
- Дробницкий О.Г. 1967. Мир оживших предметов. Проблема ценности и марксистская философия. М.: Политиздат. 351 с.
- Жувенель Б. 2011. Власть. Естественная история ее возрастания. М.: ИРИСЭН, Мысль. 546 с.
- Ильин И.А. 2001. О воспитании национальной элиты. М.: Жизнь и мысль, 512 с.
- Ильин И.А. 2007. Национальная Россия: наши задачи. М.: Алгоритм. 464 с.
- Империя фарисеев. Социология и психология диктатуры (сост. С.И. Барзилов). 1994. Саратов: Приволжское региональное изд-во. 400 с.
- Канетти Э., Московичи С. 2009. Монстр власти. М.: Алгоритм. 240 с.
- Канетти Э. 2014. Масса и власть. М.: АСТ. 574 с.
- Льюкс С. 2010. Власть: Радикальный взгляд. М.: ИД ГУ-ВШЭ. 240 с.
- Маркес Г.Г. 2005. Вспоминая моих грустных шлюх. М. Доступ: http://royallib.ru/book/markes_gabriel/vspominaya_moih_grustnih_shlyuh.html
- Миллс Ч.Р. 2007. Властвующая элита. М.: Директмедиа-Паблишинг. 844 с.
- Мухин Ю. 2009. Диагноз власти. М.: Алгоритм. 256 с.
- Най Дж.С. 2006. Гибкая власть. Н.: Тренды. 224 с.
- Ницше Ф. 2005. Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей. М.: Культурная революция. 880 с.
- Палеолог С.Н. 2004. Около власти. Очерки пережитого. М.: Айрис-пресс. 352 с.
- Ранние славянофилы (сост. Н.Л. Бродский). 1910. М. 440 с.
- Сакс. Д. 2012. Цена цивилизации. М.: Изд-во Института Гайдара. 552 с.
- Сенокосов Ю. 2005. Власть как проблема. Опыт философского рассмотрения. М.: Московская школа политических исследований. 184 с.
- Соловьев А.И. 2013. Российская правящая элита как стратегический проектировщик. -Элитология России: современное состояние и перспективы развития. Т.1. Ростов н/Д: Изд-во ЮРИФ РАНХиГС. С. 77-90.
- Финансы. 2010. М.: РИПОЛ классик. 608 с.
- Чернышов А.Г. 2013. Цена будущего. Тем, кто хочет (вы)жить. М.: Алгоритм. 352 с.