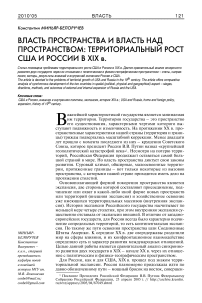Власть пространства и власть над пространством: территориальный рост США и России в XIX в
Автор: Миньяр-Белоручев Константин Валерьевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Геополитика
Статья в выпуске: 5, 2010 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблемам территориального роста США и России в XIX в. Дается сравнительный анализ синхронного развития двух государств через их отношение с политическим и физико-географическим пространством - этапы, направления, методы, результаты внешней и внутренней экспансии России и США.
Сша и Россия, внешняя и внутренняя политика, экспансия, история xix в.
Короткий адрес: https://sciup.org/170165335
IDR: 170165335
Текст научной статьи Власть пространства и власть над пространством: территориальный рост США и России в XIX в
В ажнейшей характеристикой государства является занимаемая им территория. Территория государства – это пространство его существования, характерными чертами которого выступают подвижность и изменчивость. На протяжении XX в. пространственные характеристики нашей страны (территория и границы) трижды подвергались масштабной коррекции. Менее двадцати лет прошло с момента последнего из них – крушения Советского Союза, которое президент России В.В. Путин назвал «крупнейшей геополитической катастрофой века»1. Несмотря на потерю территорий, Российская Федерация продолжает оставаться самой большой страной в мире. Но власть пространства диктует свои законы развития. Суровый климат, обширные, малоосвоенные территории, протяженные границы – вот только некоторые из вызовов пространства, с которыми нашей стране приходится иметь дело на протяжении столетий.
Основополагающей формой покорения пространства является экспансия, две стороны которой составляют присоединение, подчинение или охват в какой-либо иной форме новых пространств или территорий (внешняя экспансия) и хозяйственное освоение уже имеющихся территориальных массивов (внутренняя экспансия). История экспансии Российского государства насчитывает по меньшей мере четыре столетия, при этом внутренняя экспансия существенно отставала от экспансии внешней. В отличие от западноевропейских государств, для России всегда было характерно подчинение сопредельных территорий, то есть континентальная экспансия. По такому же пути освоения пространства шли Соединенные Штаты Америки. К середине XX в. две сверхдержавы разделили мир на сферы влияния, и их конфронтационное взаимодействие определяло суть и характер развития международных отношений. Целью данной работы является сравнительный анализ синхронного развития двух государств в XIX – начале XX в. через их отношение с политическим и физико-географическим пространством.
Для России, как и для США, XIX в. прошел под знаком территориальной экспансии. Россия планомерно продолжала идти по давно обозн аченному пути – мощный бросок на восток, совершен-
-
1 Послание Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации, 25 апреля 2005 г. // http://archive.kremlin . ru/text/appears/2005/04/87049.shtml
ный в XVII–XVIII вв., превратил нашу страну в первую и единственную трансконтинентальную евразийскую державу, владеющую к тому же плацдармом на североамериканском континенте (Русская Америка). Соединенным Штатам приходилось начинать с самых азов – на начало XIX в. их территория простиралась на запад лишь до Миссисипи, ограниченная с трех сторон владениями Великобритании и Испании.
Экспансия США в XIX в. распадается на четыре четко различимых периода. Первые три из них составляют этап континентальной экспансии (1800–1821; 1821–1843; 1843–1865), четвертый (1865– 1914) – стал временем экспансии колониальной. Российская экспансия в XIX в. также включает четыре периода (1800– 1810; 1820–1840; 1850–1885; 1885–1914), однако, в отличие от США, Россия не стала осуществлять переход от континентальной к колониальной экспансии, а владения в Северной Америке пришлось уступить, причем Соединенным Штатам.
Магистральным направлением экспансии США было движение на запад и юг, включавшее смену более узконаправленных векторов. На первом периоде можно выделить три вектора: северный (Канада), южный (Флорида), западный (Луизиана). На втором и третьем периодах западная (луизианская) линия разветвлялась на три новых вектора: юго-западный (Техас и Новая Мексика), северо-западный (Орегон) и центральный западный (Калифорния). В четвертый период три вектора продолжали движение на запад – центрально-тихоокеанский (Мидуэй, Гавайи, Гуам, Уэйк), южно-тихоокеанский (Самоа) и северо-западный (Аляска), а четвертый «возрождал» движение на юг (Карибский бассейн).
Пространственную организацию российской экспансии можно охарактеризовать как «давление по периметру», осуществляемое по трем магистральным линиям, каждая из которых включала несколько векторов. Западная линия распадалась на три вектора: северозападный (Финляндия), центральный (Польша) и юго-западный (Бессарабия и Балканы). Южная линия включала два вектора: кавказский и среднеазиатский. Наконец, восточная линия делилась на три вектора: юго-восточный (Приамурье и Уссурийский край), цен- тральный (Сахалин и Курильские острова) и северо-восточный (Русская Америка). Наложение пространственного движения на временну ю ось позволяет говорить о таком явлении, как «восточный сдвиг» – на протяжении XIX в. приоритеты пространственного расширения России смещались с западных областей на восточные.
На первом периоде главной целью экспансии являлось расширение пределов доуральской России от Финляндии до Кавказа. Для второго периода характерно движение на юг от устья Дуная до Казахстана. На третьем периоде давление на юг продолжается, но расширяется вплоть до Тихого океана; при этом если главные усилия прилагались на Балканах, то наиболее значительные результаты были достигнуты в Средней Азии и на юге Дальнего Востока. Наконец, четвертый период отличается особым вниманием к юго-восточному вектору (Порт-Артур, Манчжурия).
За рассматриваемый период США лишь однажды потерпели поражение, в результате которого один из векторов экспансии оказался для них закрыт (Канада, англоамериканская война 1812 г.). Для нашей страны общий успех сочетался с отдельными, но оттого не менее болезненными поражениями – военными (Крымская война, русско-японская война) и дипломатическими (русско-турецкая война 1877–1878 гг.) – и уступками (добровольными или вынужденными) имеющихся территорий.
Важную роль для изучения экспансии играет классификация территорий по их предшествующей правопринадлежности и способу приобретения. По принадлежности приобретаемые территории можно разделить на три группы.
-
(1) Владения великих держав.
США: Луизиана (Франция), Флорида, Филиппины, Пуэрто-Рико (Испания), Аляска (Россия);
Россия: Тернополь (Австрия) и Белосток (Пруссия), приобретенные в период наполеоновских войн.
-
(2) Владения стран «второго эшелона».
США: Техас, Новая Мексика, Калифорния (Мексика);
Россия: Финляндия (Швеция), Закавказье (Иран, Турция), Бессарабия и устье Дуная (Турция), Приамурье и Уссурийский край (Китай).
-
(3) Так называемые «пустоши», ничей-
- ные земли (на которые обычно имеется несколько претендентов).
США: Орегон и тихоокеанские острова (кроме Филиппин);
Россия: Казахстан, Туркестан, Курильские острова, Сахалин.
По степени конфликтности методы экспансии ранжируются от военно-конфронтационных до мирно-дипломатических. С одного края шкалы оказываются завоевание (захват в ходе вооруженного конфликта) и военная оккупация без объявления войны, с другого – продажа (или иная мирная уступка) и раздел по обоюдной договоренности. Внешняя канва событий и их внутреннее содержание могут различаться. Отказ Испании от Флориды, оккупированной американцами без объявления войны (1810–1818), был оценен в 5 млн долл.1, а за Новую Мексику и Калифорнию, которые США завоевали в 1846–1848 гг., Мексика получила 15 млн долл.2 Раздел Орегона между США и Великобританией (1846) стал возможен в результате военно-дипломатического давления США3. Переход Приамурья от Китая к России и размежевание в Уссурийском крае (1858–1860) осуществлялись в условиях реального освоения Россией левобережья Амура (с 1689 г. формально принадлежавшего Китаю) и на фоне давления на Китай европейских держав (вторая опиумная война, 1856–1860).
Территориальный рост государства невозможен без соответствующей идейной и идеологической основы. Идеология американской экспансии окончательно оформилась в середине 1840-х гг., когда была сформулирована доктрина «предопределения судьбы», согласно которой территориальные притязания США основывались не на традиционных для международного права факторах «перво-открывания, исследования, поселения, соположения», а на «предначертанном судьбой праве заселить и владеть всем континентом, который Провидение вручило» американцам для распространения принципов «свободы и федеративного са-моуправления»4. Идеология российской экспансии не получила столь же законченной формы. В ее основе лежало тесное переплетение двух разнонаправленных, но типологически схожих концепций. С одной стороны, это идеи панславизма и православной общности (защита славянских и православных народов на Балканах, сохранение и упрочение православия)5. С другой стороны, в этот период происходит зарождение идеи «азиатского предназначения» России6.
Ни в США, ни в России не существовало единства по вопросу территориальных приобретений. Борьба вокруг аннексии Техаса поставила американское общество на грань раскола в первой половине 1840-х гг.; Аляска в ходе переговоров о ее покупке удостаивалась таких эпитетов как «Моржроссия», «полярный сад Джонсона» и «морозильник Сьюарда»7. Столь же неоднозначным было отношение к территориальным приобретениям в России. Так, министр внутренних дел П.А. Валуев писал в своем дневнике в 1865 г.: «Ташкент взят ген. Черняевым. Никто не знает почему и для чего… Есть нечто эротическое во всем, что у нас делается на отдаленной периферии Империи»8. А в 1869 г. в контексте планируемого дальнейшего продвижения в Среднюю Азию директор Азиатского департамента МИД П.Н. Стремоухов за- являл, что «новое расширение пределов было бы самым решительным вредом для нашего Отечества»1.
Не менее важным, чем приобретение новых территорий, является их хозяйственное освоение. Большие, но малозаселенные и малоосвоенные пространства создают лишь иллюзию мощи и легко могут стать объектом притязания соседних государств. Внутренняя экспансия включает в себя три взаимосвязанных элемента: заселение (колонизацию); административную организацию территориального управления; создание инфраструктуры (транспортной, промышленной, финансовой).
Базовым элементом внутренней экспансии является колонизация. Колонизация Северной Америки традиционно описывается посредством концепции «подвижной границы» (фронтира), понимаемой как рубеж между освоенными и неосвоенными пространствами внутри страны2. Современные российские и американские авторы используют концепцию фронтира применительно к России3. В обеих странах существовал слой «профессиональных мигрантов», ведущая роль в освоении новых территорий принадлежала частной инициативе, а не государству. Синхронно происходит всплеск переселенческого движения в результате освобождения крестьян в России (1861) и предоставления в США возможности бесплатного получения земельного надела (1862)4.
Но существовали и «национальные особенности» колонизационного процесса, обусловленные как различиями в политическом устройстве и социально-экономическом развитии, так и пространственными императивами. Пространственные векторы внутренней экспансии строго задавались направлением экспансии внешней. Для американской колонизации магистральным было движение на запад, в России в роли осваиваемых территорий выступали Северное Причерноморье и Кавказ (юго-запад и юг), Сибирь и
Дальний Восток (восток). Различалась и политика правительств России и США в отношении коренного населения осваиваемых территорий. Американские индейцы изгонялись на бесплодные земли и физически уничтожались – подобная политика определялась курсом на переселенческую колонизацию. Царская Россия сочетала переселенческую колонизацию с политикой интегрирования (как мирными, так и насильственными методами) местных народов в единое имперское национальнополитическое пространство. В результате на рубеже XIX–XX вв. русские составляли менее 45% населения империи, а общая численность русского населения на территории национальных окраин (земли, присоединенные с середины XVII в.) не превышала 16,5%. Коренное население Соединенных Штатов в 1900 г. составляло 0,3%5.
Темпы переселенческой колонизации в России отставали от аналогичных процессов в США, при том что колонизационный потенциал России не только не уступал американскому, но и превосходил его – значительная часть российских территорий представляла собой так называемые «антропопустыни» (Сибирь и Дальний Восток). Об этом свидетельствует и организация территориального управления. В начале 1912 г. основной массив американских земель принял современную форму административно-территориальной организации6. Базовой единицей деления дореволюционной России являлась губерния; малоосвоенные и удаленные территории, а также неспокойные национальные окраины организовывались в области7. На 1914 г. весь Дальний Восток и Средняя Азия имели областное управление, что отражало нефинализиро-ванность административного статуса этих территорий.
Появившиеся в XIX в. железные дороги стали основным средством обеспечения коммуникационной связности континентальных держав. США существенно опережали Россию по темпам железнодорожного строительства. В период подготовки строительства железной дороги Москва – Санкт-Петербург «отличнейшие и благонадежнейшие» инженеры путей сообщения были командированы в Северную Америку для «обозрения железных дорог» и знакомства с американским опытом их строительства и эксплуа-тации1. Строительство дороги, связавшей две российские столицы (длиной 645 км), завершилось в 1851 г. К этому времени общая протяженность железнодорожной сети США составляла 17,5 тыс. км. В 1852 г. в России было 1 050 км железных дорог, в США – 21 тыс. км, в 1868 г. – 5 тыс. и 68 тыс. км соответственно; в 1872 г. – 15 тыс. и 92 тыс. км; в 1892 г. – 32 тыс. и 275 тыс. км, в 1914 – 70 и 400 тыс. км2. Первая трансконтинентальная железная дорога была построена в США в 1869 г., а к 1893 г. по их территории проходили пять таких магистралей.
Существенно уступая американским по протяженности, российские железные дороги выполняли связующую функцию между удаленными частями империи. Россия делала упор на линейную протяженность, жертвуя плотностью сети. Железнодорожные пути соединили Центральную Россию с Украиной и Польшей, побережьем Черного моря, Северным Кавказом и Закавказьем, УраломиЗападнойСибирью,Центральной Азией. Важнейшей вехой является начало строительства Транссибирской магистрали (1891), позволившей России в полном смысле этого слова стать трансконтинентальной державой.
Каковы же общие итоги сравнительного анализа пространственного роста США и России на протяжении XIX в.? Обе страны использовали схожие стратегии, обусловленные властью пространства, формулируя на схожие вызовы типологически однородные ответы. Более низкая скорость внутренней экспансии России по сравнению с США объясняется разницей в линейных расстояниях и климатических условиях. Низкий уровень освоенности зауральской России позволил В.П. Семенову-Тян-Шанскому представить российскую колонизацию в виде «постепенно суживающегося, зазубренного меча, тончающего и слабеющего на своем восточном конце», который, оказывается, «очень легко обрубить»3. Успех экспансии зависел от международно-политического окружения. США практически не встречали равных по силе противников, готовых сражаться за интересующие американцев территории, в то время как Россия практически во всех конфликтах прямо или косвенно сталкивалась с великими державами – в Восточной Европе, на Балканах, на Кавказе, в Средней Азии и на Дальнем Востоке. Комбинация физико-географических и международно-политических условий воздвигла барьер на пути царской России к морским просторам. Выход из Балтийского, Черного и Охотского морей в открытый океан находился под контролем иностранных держав.
За столетие, которое отделяет нас от конца описываемых событий, пространственные характеристики нашей страны трижды изменялись. Многие из стоявших в начале XX в. проблем пространственного развития остаются на повестке дня – некоторые так и не были решены, другие заново возникли после распада СССР. Наиболее острые из них – низкая степень демографического и хозяйственного освоения Сибири и Дальнего Востока и недостаточный уровень транспортной связанности с зауральской Россией. Осознание проблем и поиск путей их преодоления должны опираться на знание собственной истории и на использование опыта других государств.