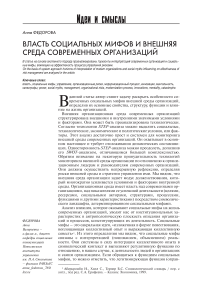Власть социальных мифов и внешняя среда современных организаций
Автор: Федорова Анна Валерьевна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Идеи и смыслы
Статья в выпуске: 4, 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье на основе системного подхода проанализированы горизонты интерпретаций современных организаций и социальные мифы, влияющие на эффективность процесса управления рисками.
Власть, социальные мифы, управление, организационные риски, модернизационный процесс, инновации, ментальность, катастрофы
Короткий адрес: https://sciup.org/170166900
IDR: 170166900
Текст научной статьи Власть социальных мифов и внешняя среда современных организаций
В данной статье автор ставит задачу раскрыть особенности современных социальных мифов внешней среды организаций, определив их основные свойства, структуру, функции и влияние на жизнь организаций.
Внешняя организационная среда современных организаций структурирована внешними и внутренними значимыми условиями и факторами. Она может быть проанализирована технологически. Согласно технологии STEP -анализа можно выделить социальные, технологические, экономические и политические условия, или факторы. Этот анализ достаточно прост и системен для мониторинга внешней среды современных организаций. Он охватывает в основном настоящее и требует отслеживания динамических составляющих. Односторонность STEP -анализа можно преодолеть, дополнив его SWOT -анализом, отличающимся большей комплексностью. Обратим внимание на некоторую принудительность технологий мониторинга внешней среды организации по отношению к организационным лидерам и руководителям современных организаций. Они должны осуществлять непрерывную рефлексию, определяя риски внешней среды и стратегии управления ими. Мы видим, что внешняя среда организации задает модус долженствования, который многократно усиливается условиями и факторами внутренней среды. Организационная среда имеет власть над современными организациями, над показателями ее успешной деятельности (целями, ресурсами, социальными акторами, структурами, процессами, функциями и другими характеристиками) посредством символического ландшафта, детерминированного социальными мифами.
ФЕДОРОВА
Анна
Анализ влияния, которое оказывают социальные мифы на жизнь современных организаций, уводит нас от институциональных характеристик в антропологическую плоскость описания организаций и процессов, конституирующих их деятельность. Социальные мифы – это сакральная идея, «изложенная в форме повествования, воплощающая коллективный опыт и выражающая коллективную совесть»1. Из этого определения мы видим, что социальные мифы связаны с интерпретацией (пониманием, объяснением) реальности. Они системны в силу интеграции коллективного опыта в символический контекст и выполняют регулятивную функцию по отношению, в нашем случае, к деятельности людей в организациях и самим организациям. Если обращаться к функциям социальных мифов, то можно отметить, что легитимирующая функция (оправ- дание и поддержание существующего социального порядка, по Б. Малиновскму) нас будет интересовать в меньшей мере. Мы рассмотрим мифы с позиции когнитивной и коммуникативной функций (Леви-Стросс, Ю. Хабермас).
Когнитивная функция социальных мифов, конституированных в организационной среде, заключается в том, что они помогают акторам социальной жизни современных организаций исследовать, понимать, объяснять, рефлексировать и контролировать современную ситуацию. Коммуникативная функция раскрывает себя через выстраивание диалога с основными акторами организаций в системе внутри- и межорганизационных отношений.
Поэтому остается актуальной и методологически емкой метафора реальности как текста, гипертекста. Современность – это гипертекст, который необходимо «схватить» в акте рефлексии, понять, прояснить, интерпретировать. Интерпретация становится актом бытия: «В эту онтологию понимания не погружаются постепенно, углубляя методологические возможности использования истории или психоанализа, туда переносятся внезапно, резким поворотом проблематики… Резким поворотом проблематики нужно поставить вопрос о бытии, которое “здесь”»1. Это осуществимо в рамках социологической рефлексии горизонтов интерпретации. В литературе выделяют горизонт модерна, постмодерна, «вызова – ответа», ментальности, направленности на другого и горизонт катастрофы2. Эти горизонты, на наш взгляд можно дополнить горизонтом организационного риска, который организует и систематизирует другие горизонты.
Горизонт модернизации описывает современность как ситуацию, проявляющую себя через мобилизационную инноватику, когда в рекордно короткие сроки осуществляется мобилизация всех ресурсов организации: финансовых, материальных, человеческих, временных, информационных. Этот горизонт предлагает нам миф модернизационного процесса. Миф – в силу того, что утрачены основополагающие характеристики процесса модернизации как процесса социальной реальности: введение нового или существенное изменение старого на основе проблематизации ситуации; планирование и реализация инноваций, исходя из логики развития самой ситуации (на основе процессов самоорганизации); использование проектного режима в процессе реализации инноваций.
Современные модернизационные процессы в организациях протекают на основе реагирования властных субъектов в системе внутриорганизационных и межорганизационных отношений на острые социальные проблемы, последствия которых нельзя нивелировать в символическом и коммуникационном контексте. На первый план выходят риски навязывания видения ситуации под определенным углом зрения. Во многом эта особенность объясняется работой селекторов, изменяющих, а иногда и искажающих информацию. Эти риски дополняются рисками реализации инноваций «сверху» в режиме компрессии времени. Эффективность модернизационного процесса во многом определяется политической волей социальных акторов, что в свою очередь проявляет риски конфликтности/толерант-ности и риски упущенных возможностей. Наглядной иллюстрацией этих процессов служит отношение россиян к социальноэкономическим реформам 1990-х гг.: «Большинство россиян (около 70% опрошенных) не склонны соглашаться с точкой зрения инициаторов реформ о безальтернативности предпринятых в начале 1990-х гг. мер, обусловленных глубиной экономического и политического кризиса. Истинная цель реформ, по мнению большинства, не в скорейшем преодолении экономического кризиса, а в интересах как самих реформаторов, так и стоявших за ними общественных групп, стремившихся к переделу в свою пользу бывшей социалистической собственности. Именно этими целями во многом объясняется и свертывание возможностей влияния общества на принятие политических решений»3.
Проектный подход к модернизационному процессу конфликтен, т.к. встречает сильное сопротивление на каждом этапе работы проектной группы. Не отличаются толерантностью отношения и внутри проектной команды. Риски разработки и внедрения социальных утопий вместо проектирования и реализации проектных разработок – это системные риски, сопутствующие процессам модернизации.
Горизонт постмодерна предлагает нам для рефлексии мифы горизонтальности и дробности: «Помимо сдвигов в социальноэкономических условиях жизни россиян существенные изменения претерпели и их мировоззренческие установки. Вместе с распадом СССР рухнула идеологическая гомогенность советского типа. На смену ей пришел не столько “положенный” согласно теории плюрализм, сколько нарастающая хаотизация ментального пространства»1.
Вместе с тем функционирующие и изменяющиеся современные вертикали продолжают удивлять нас своей жизнеспособностью и особой направленностью (например, правительственные бюрократии и церковь). На наш взгляд, дробность, мозаичность – это процессы, связанные с возможностью образования новых центров принятия решений, информационных и властных центров. Доминирующее значение в процессе выстраивания социальных практик управления продолжают играть эвристики, увеличивая неопределенность современной ситуации и риски, связанные с ней. Политические алгоритмы служат скорее вспомогательным средством контроля за эффективностью современного управления.
Зигмунт Бауман обращает внимание на темпоральность (временные особенности) современной ситуации, анализируя особый вид модерности – «текучую модерность». Он вкладывает в это понятие положительный смысл (в отличие от постмодерна): «постоянно происходящие перемены имеют какое-то заранее определенное направление, они застают нас врасплох, мы их не ожидаем и не предвидим»2. Настоящее сконцентрировалось «в точке», сократив временную перспективу и снизив достоверность даже самых краткосрочных прогнозов. Горизонт будущего закрыт высокой степенью неопределенности, наиболее остро обозначая риски планирования, целеполагания, рефлексии и обратной связи, которые в наибольшей степени проявляют себя в эффективной/ неэффективной деятельности социальных акторов современных организаций.
З. Бауман сравнивает неопределенность современной ситуации с неопределенностью междуцарствия: «междуцарствие порождает вопрос, состоящий не в том, что делать, а в том, что если бы мы знали, что делать, кто это бы сделал?» Это очень серьезный вопрос, затрагивающий ситуацию выбора или отказа от него субъекта управления и меру социальной ответственности, которую он на себя принимает.
Горизонт «вызова – ответа» предлагает настроенность на то, чтобы услышать эти «вызовы» и подготовить адекватный ответ. Запад перестал выступать в роли «соблазна» в повседневной жизни, культурологическом и библейском планах социальной реальности. Данные социологических исследований обращают наше внимание на конфликтность (латентный конфликт) России и Запада: «Между Россией и Западом возникали все новые противоречия, что, естественно, отражалось на динамике общественного мнения. Уже в 1995 году надежда на Запад сохранялась только у 7% опрошенных, тогда как 44% утверждали, что Западу совершенно безразлична судьба России, а 31% респондентов даже полагали, что он целенаправленно стремится ее ослабить и превратить в зависимое государство»3. На данный момент число россиян, подозревающих Запад во враждебности по отношению к России, составляет половину выборки.
Восток привлекает нас скорее в изотерическом или туристическом плане. Эзотерика поверхностна, а турист всегда способен отличить собственную ментальность от другой. Выстраивая социальную и организационную жизнь, россияне поставили «слеш» между Западом и Востоком, выстраивая стратегии в крайних точках, в континууме между ними, в зависимости от ситуативных характеристик: экономический рационализм / ценностная рациональность, готовность к инновациям / традиционализм, высокая гражданская мораль и правопослушность / религиозность. Горизонт «вызова – ответа» актуализирует риски, связанные с социальным временем (успеть, соответствовать).
Горизонт направленности на другого характеризуется конфликтогенностью и низким уровнем толерантности по отношению к людям в организациях и в системе межорганизационных отношений. Речь идет скорее о противостоянии отдельных субкультур и акцентуации на различиях и противоречиях в их деятельности. Мы не преодолели «искушение индивидуализмом», что привело, согласно проведенным исследованиям, к формированию поколений россиян, проявляющих следующие жизненные стратегии: «при наличии общего “ценностного консенсуса” различных поколений (существующего, несмотря на некоторые возрастные особенности тех или иных групп, в частности, традиционные для молодежи, особенно до 25 лет, оптимизм и амбициозность) пореформенная молодежь в существенно меньшей степени демонстрирует конформистские жизненные установки»1.
Горизонт катастрофы раскрывает себя через процесс опривычивания катастроф: кибернетической, синергетической, организационной. Они становятся неотъемлемыми элементами, в первую очередь, организационной жизни социальных акторов. Все мы – люди организаций (по Т.П. Фокиной). На этапе функционирования организации катастрофы проявляют себя в кризисах отдельных организационных подсистем: управленческой, коммуникационной, финансовой, материальной, информационной и др. Кибернетическая катастрофа в наибольшей степени связана с невозможностью отстроить «умный менеджмент» и хорошо устроенную организацию. Синергетическая катастрофа – это пренебрежение синергетическими законами, такими как открытость, нелинейность, непропорциональность, особое отношение к хаосу как конструктивному началу. Организационная катастрофа – нивелирование значимости организационных законов, моделей совершенства организаций и проектных процедур.
Локализация в настоящем в значительной мере, на наш взгляд, снижает исследовательский потенциал системного исследования этого горизонта. Поскольку профессиональная рефлексия требует некоторой «остановки» деятельности в плоскости повседневной реальности. В наведении рефлексии на высоком уровне большое значение имеет фактор времени. Социальное и организационное время сжато, а организационная и управленческая ситуация по степени насыщенности событиями напоминает «бурлящую воду» (П. Вейл).
Отношение к катастрофам не имеет ничего общего с незнанием или «ученым незнанием». Речь идет об «очевидной слепоте» или отворачивании от… Как, например, ребенок отворачивается от пугающего его предмета с надеждой, что это пугающее перестанет существовать. Или горизонт настиг нас и погрузил в собственный хронотоп? Тогда это крайность, предельная точка.
Что касается горизонта ментальности, то здесь следует затронуть два наиболее важных аспекта, которые его конституируют: проблему идентичности и падение морали в современном обществе. Российская идентичность – это быстро формирующаяся идентичность на основе идентификации со страной и национальностью. «Если в 2004 г. идентификация со страной, хоть и не столь значительно, но все же очевидно уступала идентификации людей по профессии, общности по взглядам на жизнь и по национальности, то в 2011 г. по результатам проведенного исследования российская идентичность первенствовала»2.
Основными причинами падения морали являются: разочарование в нормах и правилах дореформенного социального порядка и социального порядка, предлагаемого реформаторами, отсутствие духовных лидеров (организаций), способных взять на себя роль морально-нравственных ориентиров для социальных акторов, и легитимация криминальных социальных практик. Эти причины сформировали особые стратегии жизни людей в организациях, основанные на идее «лайтовости», «легкости», когда в некоторых организациях приверженность устоявшимся нормам, традициям, правилам становится признаком несовременности и неуспеш-ности. Идея «лайтовости» затрудняет выстраивание сильной организационной культуры и долгосрочных консенсусных
1 Там же, с. 323.
коммуникационных стратегий с партнерами, конкурентами, стейкхолдерами и др. организациями во внешней среде. Падение морали в значительной мере затрудняет формирование положительного имиджа и репутации современных организаций. Потенциал современных организаций нам видится в том, чтобы с помощью аналитики риска выстроить в современных организациях особый тип культуры – культуры принятия рисков и грамотного управления ими.
Горизонт темпоральности раскрывает себя через взаимоотношения современного человека с временн ы ми модусами: настоящим, будущим и прошлым. Время в протекании социальных событий напоминает пружину, сжатую между двумя ладонями. Трудно предсказать, что произойдет с социальной жизнью отдельных людей и целых организаций, когда пружина развернется. Сейчас с известной степенью метафоричности можно утверждать, что увеличилась вязкость среды. Внешняя и внутренняя среда предлагают механизмы, сдерживающие «разворачивание этой пружины». Время в сжатом состоянии, или состоянии компрессии, опасно для социальных акторов высоким уровнем неопределенности и рисков, которыми сложно управлять.
Другой стороной временн й компрессии является «закрытость горизонтов прошлого и будущего», предполагающая сокращение времени на планирование и прогнозирование социальных событий. Имеет место эффект запаздывания. Концепт достаточности времени становится мифом. Примечательно, что изменяется отношение к вечности. Она трансформируется в стратегическую цель. Крестный ход. Женщина идет долго, почти 1,5 часа: «Надеюсь, мои уставшие ноги зачтутся мне на том свете». Вот она, вечность: в ногах и под ногами. Мы отка- зались от рефлексии прошлого социального опыта: каждый уже решил за себя, и у каждого прошлое свое.
Горизонт риска связан с изменениями процессов принятия рисков и управления ими. На смену парадигме неосознанности риска пришла парадигма рефлексивности, которую сменила парадигма управления рисками. Затем риски стали технологизировать. И в современной ситуации мы вновь сталкиваемся с отказом принимать риски и управлять ими, но на качественно новом уровне, уровне посттехнологизации. Основными причинами отказа от стратегий управления рисками в современных организациях является их сложность, комплексность и ресурсоза-тратность. Возникает и поддерживается на уровне организационных мифов иллюзия безопасности, основанная на убеждении, что организационные риски сложны, поэтому их невозможно исследовать и эффективно управлять ими. Поэтому организация предпочитает вкладывать ресурсы в повышение экономических показателей.
Таким образом, мы видим, что внешняя среда современных организаций насыщена социальными мифами – присвоенными и интериоризированными социальными контекстами, претендующими на онтологизацию. Они в значительной степени определяют жизнь современных организаций посредством риск/опасностей и риск/возможностей. В большей степени акцент делается на риск/опасностях. Для того чтобы риск/возможности проявили себя, нужны особые исследовательские процедуры, отстраивающие аналитику риска, – матрицы риска. Проведенная рефлексия позволяет утверждать, что своевременный мониторинг внешней среды современных организаций и аналитика организационных рисков способны повысить эффективность деятельности современных организаций.