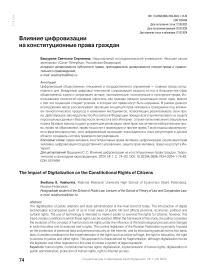Влияние цифровизации на конституционные права граждан
Автор: Вашурина С.С.
Журнал: Теоретическая и прикладная юриспруденция.
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 1 (19), 2024 года.
Бесплатный доступ
Цифровизация общественных отношений и государственного управления - главный тренд сегодняшнего дня. Внедрение цифровых технологий сопровождает каждого из нас в большинстве сфер общественной жизни и затрагивает личные, экономические, политические и культурные права. Использование технологий призвано упростить для граждан процесс реализации своих прав, вместе с тем эта тенденция создает условия, в которых эти права могут быть нарушены. В рамках данного исследования автор рассматривает эволюцию концепции прав человека и гражданина под влиянием технологического процесса и изменения инструментов, позволяющих реализовывать свои права. Действующее законодательство Российской Федерации прежде всего ориентировано на защиту персональных данных и безопасности личности в сети Интернет, а также путем внесения специальных норм в базовые законы создает условия для реализации таких прав, как активное избирательное право, право на образование, право на доступ к правосудию и прочие права. Такой подход характеризуется фрагментарностью, хотя цифровизация вынуждает законодателя и иных регуляторов в данной области создавать систему правового регулирования.
Права человека, конституционные права человека, цифровизация, реализация прав человека, цифровизация государственного управления, защита прав человека, право на доступ в интернет
Короткий адрес: https://sciup.org/14130602
IDR: 14130602 | DOI: 10.22394/2686-7834-2024-1-74-83
Текст научной статьи Влияние цифровизации на конституционные права граждан
СТАТ Ь И
Современные условия жизни невозможно представить без информационных технологий, которые оказывают влияние на каждую из сфер человеческой жизнедеятельности и, с одной стороны, упрощают ее, а с другой — создают все больше проблем в реализации и защите прав человека. Безусловно, глобализация и цифровизация общества определили усложнение общественных отношений, в какой-то степени размыли границы юрисдикции государств в цифровом пространстве, а также изменили содержание прав человека и гражданина. Данная трансформация как касается основных, традиционно признанных прав человека, так и может быть связана с появлением других цифровых прав, необходимость признания которых остается дискуссионной. Более того, в настоящее время особо острой является проблема реализации и защиты конституционных прав человека в цифровом пространстве. Прежде всего, такие трудности связаны с цифровизацией государственного управления и внедрения цифровых сервисов в деятельность органов публичной власти.
С одной стороны, данное направление деятельности призвано усовершенствовать государственное управление, сделать его более эффективным, так как информационные технологии помогают сокращать сроки рассмотрения обращений граждан и межведомственного взаимодействия, способствуют доступу к общественно значимой информации, упрощают взаимодействие заявителей и органов государственной власти, как с исполнительными органами, так и с судами; с другой — несмотря на положительный эффект внедрения технологий и их массовое распространение, необходимо понимать, что зачастую у граждан возникают проблемы реализации своих прав и их защиты в связи с технологиями, а также возрастают риски того, что права будут нарушены. Это связано с тем, что в должной мере не созданы условия, способствующие преодолению «цифрового разрыва»: не каждый гражданин имеет доступ в Интернет, не у всех есть необходимое материально-техническое обеспечение для цифрового взаимодействия, не каждый способен освоить технологии в силу своих физиологических или психологических особенностей.
Внедрение цифровых технологий во все сферы общественной жизни влечет необходимость правового регулирования общественных отношений в том случае, если такая цифровизация затронет права и обязанности граждан и юридических лиц. Удобство и комфорт использования цифровых технологий не должны умалять права и свободы граждан, признаваемые наивысшей ценностью для государства. Вместе с тем перед национальным законодателем стоит непростая задача: правовое регулирование технологий не должно замедлять или ограничивать потенциальное совершенствование технологий, позволяя государству добиваться лидерства в этой области и эффективности государственного управления, но в то же время необходимо обеспечивать возможность реализации и защиты прав и свобод человека, использующего данные технологии.
Так, проблематика данного исследования посвящена в первую очередь определению степени влияния цифровизации на содержание конституционных прав и свобод человека и рассмотрению необходимости признания так называемых новых цифровых конституционных прав граждан. Данное исследование основано на историко-правовом и сравнительно-правовом анализе зарождения и развития института прав человека как на локальном, так и на международно-правовом уровнях. Обращение автора к истокам зарождения антропоцентричности государственного строительства позволит проанализировать причинно-следственные связи, повлиявшие на развитие конституционных положений о правовом статусе личности в государстве и предположить, способна ли технологическая революция повлиять на дальнейшее развитие данной концепции на уровне конституционно-правового регулирования.
Формирование концепции прав человека
Прежде чем перейти к более детальному рассмотрению нынешнего состояния конституционных прав граждан в Российской Федерации, стоит обратиться к историческому аспекту формирования концепции уважения прав и свобод граждан как на международном, так и на национальном уровнях.
Концепция уважения прав человека и гражданина начала развиваться со времен буржуазных революций, прокатившихся по старому свету в XIX в. В связи с этим нельзя обойти стороной упоминание о естественно-правовой школе правопонимания, оказавшей значительное влияние на права человека. Так, рационалистическая теория прав человека, разрабатываемая в трудах таких мыслителей XIX в., как Г. Гроций, Ш. Монтескьё, Б. Спиноза, Ж.-Ж. Руссо, Д. Локк, Т. Джефферсон, оказала сильное влияние на формирование мировоззрения и правопони-мания граждан. Стоит заметить, что данная теория легла в основу договорной теории происхождения государства, на которой зиждется современная демократия. Теория общественного договора гласит, что в основе государственности лежит воля и свободы каждого отдельного человека, и в случае нарушения государством этой воли индивид получает право на сопротивление угнетению. Так, зарождение идеи суверенитета народа кардинально
СТАТ Ь И
меняет государственное устройство ряда европейских стран, а эпоха Просвещения становится передовой для оправдания революций и ограничения воли монарха.
Первыми документами, воплотившими естественно-правовую теорию прав человека, стали Декларация независимости США 1776 г.1 и Декларация прав и свобод человека и гражданина 1789 г.2 Вместе с тем стоит отметить, что права человека не нашли отражения в текстах первых конституций. Например, Билль о правах (первые 10 поправок к Конституции США)3 был принят отдельно, а Декларация прав человека и гражданина носила политический характер и не обладала юридической силой. Несмотря на это, в настоящее время эти документы являются фундаментом для конституционного строя в США и Франции соответственно. Безусловно, революционные и радикальные настроения, существовавшие в обществе той эпохи, нельзя в полной мере сравнивать с состоянием современного конституционного права и современной концепцией прав человека, однако отрицать важность этих идей и теорий для дальнейшего развития конституционализма и уважения прав человека невозможно.
Естественно-правовая теория прав человека продолжила развиваться и в последующие эпохи. Так, после Первой мировой войны, вызвавшей очередное крушения мирового порядка и развал ряда государств, поднялась новая волна принятия конституций. Эти документы отличались не только объемом, но и закреплением прав человека и гражданина непосредственно в тексте документа4, чего не было в предыдущих версиях. Важнейший этап в формировании концепции прав человека пришелся на послевоенный период второй половины 40-х гг. XX в. Это было связано с признанием концепции прав человека на международном уровне и построением новой системы международно-правовых отношений. Так, основополагающими документами в сфере признания важности прав человека стали Всеобщая декларация прав человека 1948 г.5, Пакт о гражданских и политических правах 1966 г.6, Пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г.7
Таким образом, естественно-правовая теория получила свое закрепление на глобальном международном уровне, став основой всеобщего договора о правах человека, и уже впоследствии, найдя отражение в современных конституциях, стала неотъемлемой частью большинства правовых систем современности. Позднее на региональных уровнях принимались иные международные договоры по правам человека, которые оказывали и/или оказывают влияние на национальные правовые системы.
Становление демократического российского государства, безусловно, связано с принятием Конституции Российской Федерации в декабре 1993 г. Для России это означало закрепление модели нового общественного и государственного строя, которая была основана на общепризнанных демократических ценностях и институтах того периода. Так, для российского государства это время является важнейшим этапом формирования концепции прав человека, ввиду того что Основной закон содержал в себе такие принципы, как полновластие народа, провозглашение прав человека наивысшей ценностью для государства, признание принципов и норм частью правовой системы. Становление Российской Федерации после распада Союза Советских Социалистических Республик прежде всего было ориентировано на достижения правовой мысли западных государств и документы, принимаемые Организацией Объединенных Наций. Соответственно, основными правами и свободами человека и гражданина стали те, что содержались в Международном билле о правах человека8 и признавались в большинстве демократических и светских государств. В последующие годы правовая система России адаптировалась к ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1953 г. и принятию обязательств по признанию и исполнению решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Безусловно, и упомянутая Конвенция, и решения ЕСПЧ оказали значительное влияние на формирование концепции прав и основных свобод человека и гражданина в России.
Конституционная реформа 2020 г. привнесла в текст Конституции новые положения, согласно которым в ведении Российской Федерации находятся информация, информационные технологии и связь9, обеспечение безопасности личности, общества и государства при применении информационных технологий, обороте цифровых данных10. Стоит отметить, что данные изменения в тексте Конституции отражают необходимость в правовом регулировании данной сферы, в том числе на уровне конституционного права. В связи с этим нельзя не согласиться с мнением Т. Я. Хабриевой и Н. Н. Черногора о том, что «происходит модификация правового регулирования, цифровизация права»11. Данные изменения, на наш взгляд, отражают положительную тенденцию, связанную со стремлением государства создать правовые рамки в целях обеспечения прав и свобод граждан при использовании информационных технологий.
СТАТ Ь И
В своем развитии права человека прошли длительный и сложный путь и воплотили в себе идеалы гуманизма, свободы, равноправия, солидарности и справедливости12, которыми нельзя поступиться в угоду использования достижений науки и техники. Рассмотрев кратко и обзорно историю развития концепции прав человека, можно заключить, что все большее развитие и признание концепции прав человека было вызвано политическими событиями, влекущими крушение прошлого миропорядка и установление нового. Вместе с тем стоит отметить, что XXI в. признается веком цифровой революции, влияющей на все сферы общественной жизни: от быта граждан до политического устройства государства. На смену классическим революциям и вооруженным конфликтам пришло технологическое развитие, являющееся наиболее эффективным инструментом для социальных изменений. В связи с чем в научном дискурсе все чаще появляются вопросы о соответствии конституций современных государств потребностям общества, о провозглашении и закреплении новых конституционных прав граждан и способов их защиты как на национальном, так и на международном уровнях. Но нуждается ли современное общество в конституционном закреплении новых прав человека, связанных с цифровыми технологиями, или пересмотре содержания ныне признанных конституционных прав, на которые цифровизация оказывает существенное влияние?
Основные традиционно признанные права граждан в цифровую эпоху
Цифровизация общественной жизни способствует цифровизации права в целом и его отдельных институтов в частности13. С повсеместным внедрением цифровых технологий в жизнь человека перед государством возникают новые вызовы, связанные с обеспечением прав граждан. В соответствии с Конституцией Российской Федерации права граждан являются наивысшей ценностью14, что, безусловно, влечет обязанность государства создавать условия и правовые режимы, которые будут защищать интересы гражданина, в том числе и в цифровом пространстве. В рамках данного исследования стоит оговорить, что конституционные права распространяются не только на граждан, как на физических лиц, но и на юридических лиц, которые в соответствии с позицией Конституционного Суда Российской Федерации представляют собой объединение граждан15. Так, проблематика, связанная с внедрением цифровых технологий, требует рассмотрения влияния не только на личные или политические права граждан, такие как, например, право на неприкосновенность частной жизни, свободу слова и активное избирательное право, но и на экономические права, например на конституционное право осуществлять предпринимательскую деятельность, которое также присуще и юридическим лицам.
В соответствии со ст. 18 Конституции Российской Федерации «права и свободы граждан определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием»16, соответственно и для обеспечения прав и свобод граждан в цифровом пространстве в России был принят ряд законов, направленный на обеспечение безопасности и конфиденциальности личности в сети Интернет, внедрение цифровых технологий в экономическую деятельность субъектов предпринимательства, возможности реализации права на участие в делах государства, доступность
СТАТ Ь И
правосудия и прочее17. Вместе с тем, учитывая все более расширяющееся применение цифровых технологий, можно говорить о том, что нынешнее правовое регулирование носит фрагментарный характер, так как оно обеспечивает защиту прав граждан и возможность реализации этих прав только в определенных областях.
В контексте цифровизации стоит отметить, что в интернет-пространство переходит все большее и большее число правоотношений, например, лица приобретают товары и услуги в сети Интернет, граждане могут выполнять трудовую функцию дистанционно, реализовывать свое активное избирательное право посредством дистанционного электронного голосования, дистанционно получать государственные услуги и участвовать в судебных процессах и прочее. Ввиду чего сложно не согласиться с мнением С. А. Паламарчук о том, что «цифровое пространство стало универсальной инфраструктурой, в рамках которой могут реализовываться абсолютное большинство законных прав граждан, закрепленных в конституционных нормах»18. Безусловно, каждое такое взаимодействие субъектов правоотношений посредством сети Интернет оказывает влияние на содержание уже существующих и признанных прав и свобод граждан. В этой связи видится необходимым анализировать складывающиеся правоотношения в контексте сформированной концепции прав человека в Российской Федерации, действующего законодательства и правоприменительной практики.
Основы правового положения личности в Российской Федерации закреплены в гл. 2 Конституции, которая имеет особое правовое значение, так как не может быть изменена и пересмотрена в порядке, предусмотренном ст. 135 Конституции. Стоит отметить, что сложившаяся система прав, свобод и обязанностей граждан основана на универсальной концепции прав человека и на международных стандартах правового статуса личности, что признается Конституционным Судом Российской Федерации и подтверждается в его решениях. Так, орган конституционной юстиции Российской Федерации неоднократно указывал на то, что «в России, как в правовом государстве, человек, его права и свободы являются высшей ценностью, а их признание, соблюдение и защита — обязанностью государства, они признаются и гарантируются согласно общепризнанным принципам и нормам международного права, и в соответствии с Конституцией Российской Федерации определяют смысл, содержание и применение законов, обеспечиваются правосудием»19.
Особенно важно отметить, что ряд конституционных принципов правового положения личности может быть подвергнут угрозам, связанным с внедрением цифровых технологий. Так, например, под угрозу нарушения подпадают принцип охраны достоинства личности, принцип равенства граждан перед законом, принцип отмены или умаления прав и свобод, принцип гарантированности государственной защиты прав и свобод. Основные права и свободы граждан, опирающиеся на перечисленные принципы, являющиеся базовым ориентиром законодателя и правоприменителя, в настоящее время не могут быть в полной мере обеспечены защитой и возможностью реализации.
Действующее законодательство в области обеспечения прав граждан в условиях цифровизации не образует единый правовой механизм, направленный на обеспечение и защиту конституционных прав граждан. Так, например, федеральное законодательство в сфере персональных данных направлено на обеспечение конституционного права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Гражданско-правовой институт, закрепленный в ст. 152 Гражданского кодекса Российской Федерации, обеспечивает конституционное право на защиту чести и доброго имени. Избирательное законодательство, в частности ст. 64.1 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», обеспечивает реализацию активного избирательного права. Вместе с тем, например, активно реализуемое внедрение технологий искусственного интеллекта в работу государственных органов может привести к тому, что данная технология будет в автоматическом режиме рассматривать обращения граждан и составлять проекты ответов от имени государственного органа или органа местного самоуправления, что, безусловно, нарушит конституционное право гражданина на рассмотрение своего обращения государственным органом или органом местного самоуправления, должностным лицом. В этой связи необходимо понимать, что цифровые технологии, в частности технологии искусственного интеллекта, не должны подменять собой должностных лиц, принимающих решения и ответственных за них, а могут выступать в качестве эффективного помощника.
Несмотря на значительное количество нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере цифрового пространства, на уровне конституционно-правового регулирования в недостаточной степени сформулиро- ван правовой базис, способный выступить ориентиром для законодателей и правоприменителей с точки зрения разработки и принятия норм в отдельных сферах общественной жизни. На сегодняшний день развитие технологий в большей степени регулируется программно-стратегическими актами20, которые в большей степени направлены на решение задачи совершенствования и массового внедрения технологий, в то время как создание единого правового механизма не предусматривается. Стоит отметить, что под единым правовым механизмом в данном случае может пониматься не только, например, кодекс, который бы мог обобщить и гармонизировать законодательство в сфере применения информационных технологий. В данном случае просматривается особая роль и высокая значимость конституционного права.
СТАТ Ь И
Говоря про конституционно-правовое регулирование данной сферы, необходимо отметить, что перед этой отраслью стоит ряд неразрешенных проблем. Во-первых, ввиду изменения содержания некоторых традиционных конституционных прав необходимо предусмотреть гарантии реализации этих прав в цифровой среде. Очевидно, что цифровая среда способствует реализации права свободно искать, получать и передавать информацию, но вместе с тем под угрозу нарушения может попасть право на неприкосновенность частной жизни, так как реализация первого права неразрывно связана с сохранностью и обеспечением безопасности персональных данных в сети Интернет. Ярким примером взаимосвязанности этих явлений выступает таргетированная реклама, «которая строится на основе персональной информации (включая содержание поисковых запросов), обрабатываемой де-факто без ведома ее обладателей»21.
Кроме того, право на образование, право на охрану здоровья и медицинскую помощь, свободу творчества — все они уже реализуются гражданами посредством новых технологий в цифровом пространстве.
Во-вторых, нынешнее правовое регулирование характеризуется несбалансированностью обеспечения отдельных конституционных прав и свобод ввиду необходимости обеспечения безопасности государства и защиты личности от вредоносной информации22. Безусловно, базовый механизм ограничения прав и свобод человека предусмотрен ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации, в соответствии с которым «права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства»23. Однако нынешняя практика регулирующих органов указывает на то, что ограничение доступа к информации обеспечивается решением надзорного органа в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). В этом случае сложно не согласиться с мнением О. Москалевой о том, что зачастую под блокировки подпадают не только вредоносные материалы и материалы, противоречащие законодательству, но и иные24. В контексте данного вопроса необходимо отметить, что ограничение доступа к информации, распространяемой в сети Интернет, как следует из правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, должно отвечать требованиям «справедливости, быть соразмерным конституционно закрепленным целям и охраняемым интересам, а также характеру совершённого деяния; такие меры допустимы, если они основываются на законе, служат общественным интересам и не являются чрезмерными; в тех случаях, когда конституционные нормы позволяют законодателю установить ограничения закрепляемых ими прав, он [законодатель], имея целью воспрепятствовать злоупотреблению правом, должен использовать не чрезмерные, а только необходимые и обусловленные конституционно признаваемыми целями меры»25. В случае несоблюдения критериев, изложенных в правовых позициях Конституционного Суда, чрезмерное ограничение права на доступ к информации может привести как «к умалению, так и фактической отмене такого права»26.
В-третьих, особенности регулирования общественных отношений, осложненных использованием технологий в цифровом пространстве, объясняются тем, что это регулирование не должно замедлять технологическое развитие. Соответственно, необходим поиск баланса между созданием единого правового механизма, основанного на
СТАТ Ь И
конституционно-правовых принципах, и созданием условий для технологического развития. Наиболее подходящим способом выработки конституционных принципов в данной области видится практика Конституционного Суда Российской Федерации. Орган конституционной юстиции в порядке системного толкования норм Конституции способен выработать базовые принципы конституционного регулирования в сфере цифровизации. Видится, что именно такая деятельность Конституционного Суда способна создать условия для формирования единого конституционно-правового механизма в сфере цифровизации, направленного на защиту конституционных основ государства, основных прав и свобод человека и гражданина, отражая дополнительную гарантию соблюдения и реализации прав граждан27.
Таким образом, из вышесказанного следует, что внедрение цифровых технологий, с одной стороны, ставит под угрозу реализацию ряда прав человека, признаваемых Конституцией, с другой — создает новые возможности для их реализации. В этой связи очевидна необходимость выработки первичных конституционных принципов правового регулирования в сфере внедрения цифровых технологий, направленных на достижение конституционно-значимых целей, обеспечение соблюдения и реализации конституционных прав и свобод человека и гражданина.
Право на доступ в Интернет: новое конституционное право?
Как было отмечено ранее, становление современной концепции прав человека было связано с радикальными изменениями общественного порядка и отношения людей к окружающему миру. К таким радикальным изменениям обобщенно можно отнести революционное изменение государственного устройства и глобальные вооруженные конфликты. Однако история общественных отношений свидетельствует не только о силовом изменении общественного сознания, не менее эффективными способами изменения общественных отношений являлись изменения в способах производства и орудий труда. Так, аграрная революция повлияла на организацию поселения людей, что впоследствии привело к урбанизации и появлению городов, первая промышленная революция упростила производство и ускорила транспортировку, вторая — породила массовое производство, третья промышленная революция привела к изобретению ЭВМ и появлению персональных компьютеров. По мнению К. Шваба, сейчас человечество переживает четвертую промышленную революцию, основными чертами которой являются «доступный и мобильный Интернет, миниатюрные производственные устройства, искусственный интеллект и обучающие машины»28.
Каждая из этих революций влекла за собой изменение средств производства, ускорение процессов деятельности человека, появление новых форм взаимодействия людей между собой, с обществом и государством. Безусловно, право обязано было реагировать на эти социальные изменения: признавались новые формы собственности, вводились антимонопольные правила, защищавшие законные интересы предпринимателей и рынка, принимались правила дорожного движения, направленные на обеспечение безопасности всех участников и т. д. Однако в рамках данного исследования автор намерен рассмотреть концепции и аргументы о необходимости признания новых конституционных прав, которые порождены Четвертой промышленной революцией.
Так, основную роль в данном вопросе, безусловно, играет Организация Объединенных Наций и цели устойчивого развития общества, принятые ею. Сегодня Интернет является основным инструментом совершенствования общественных отношений, что влечет за собой повышение его ценности. Впервые идея признания права на доступ в Интернет как основного права человека была зафиксирована в Окинавской хартии Глобального информационного общества, в соответствии с которой признается, что «каждый человек должен иметь возможность доступа к информационным и коммуникационным сетям»29. Впоследствии идея общедоступности Интернета входила в ряд деклараций уровня Совета Европы30, которые содержат идею о том, что возможность полноценной реализации личностью своих прав ставится в прямую зависимость от возможности доступа в Интернет. В 2011 г. в отчете о распространении и защите прав на свободу выражений мнений Генеральной ассамблеей ООН было признано, что «доступ в Интернет является частью этих прав и свобод»31. Несмотря на это, стоит отметить, что данное положение не носит какого-либо юридического характера и не обязывает государства отражать данную позицию в национальном законодательстве.
Необходимость конституционного закрепления права на доступ в Интернет как самостоятельного субъективного права граждан не находит единения в научных точках зрения ученых-правоведов. Так, например, Э. В. Талапина считает, что право на доступ в Интернет может быть признано самостоятельным правом, при этом оно необязательно должно быть отражено в какой-либо норме права, а может быть истолковано судебными органа-ми32. Этой же точки зрения придерживается и А. И. Хустнутдинов, указывая на то, что свидетельством признания права на доступ в Интернет является взятие государством на себя «обязательств, касающихся технологического и идеологического аспектов доступа в Интернет и работы в нем»33. В контексте рассмотрения необходимости признания «права на доступ в Интернет» как конституционного права граждан, стоит обратить особое внимание на то, что признание такого права самостоятельным и неотъемлемым связывается с уровнем демократизации общества и государственного строя34. Так, по мнению А. А. Щербовича, право на доступ в Интернет признается в демократических странах, в то время как государства с другим политическим строем подобное право не признают, опасаясь невозможности контроля за выражением мнений в сети Интернет35. Данная точка зрения имеет место быть, особенно в свете причин обеспокоенности ООН ситуацией на Ближнем Востоке, где право на доступ в Интернет связано с протестными явлениями, для подавления которых правительство вводит ограничение на доступ к Сети. Однако дискуссия о необходимости признания права на доступ в Интернет в качестве неотъемлемого права человека должна проистекать от определения того, чем же является сам Интернет: правом или способом реализации прав? По нашему мнению, аргументация в пользу признания такого права самостоятельным не должна сводиться исключительно к оценке уровня демократизации общества, допустимости свободы слова и выражения мнений.
СТАТ Ь И
Признание права на доступ в Интернет неотъемлемым правом гражданина влечет за собой принятие государством на себя обязанности создания условий для возможности реализации такого права. Данный подход видится неисполнимым особенно в нынешних условиях в силу следующих обстоятельств:
-
1. Создание условий для реализации права на доступ в Интернет требует преодоления «цифрового» разрыва, возникающего не только из-за сложностей в техническом обеспечении территории государства доступом в Интернет, но и из-за когнитивных способностей и физиологических характеристик пользователей.
-
2. Возможность предоставления услуг связи, в том числе доступа в Интернет, может попасть в зависимость от политических, экономических, а также иных событий.
Кроме того, несмотря на возможность реализации большинства конституционных прав граждан посредством сети Интернет, ограничение доступа к последнему не станет непреодолимым препятствием в большинстве случаев для физических лиц, однако для юридических возможность реализации своих прав существенно снижается. В этом контексте сложно не согласиться с мнением К. В. Арановского, С. Д. Князева, Е. Б. Хохлова о том, что доступ в Интернет является не правом, а гарантией реализации других прав36.
Так, Интернет не может быть признан обязательным и неотъемлемым условием для реализации гражданами своих прав, так как является лишь инструментом, обеспечивающим удобство в реализации. Вместе с тем, например, В. Серф, известный как создатель Интернета, не причисляет его к неотъемлемым правам граждан в связи с тем, что это лишь инструмент, соответствующий уровню развития общества37.
В рассмотрении вопроса о признании права на доступ в Интернет неотъемлемым правом каждого гражданина необходимо также сфокусировать внимание на том, что сеть Интернет — это цифровое пространство, в котором граждане могут реализовывать свои права, однако оно также должно подчиняться правовым режимам защиты личности, общества и государства. Защита прав и свобод граждан в цифровой среде не означает обеспечение максимальной свободы личности в этом пространстве, в связи с чем вполне закономерно введение как ограничений, так и запретов на доступ к сети Интернет и к распространению определенных видов информации.
Таким образом, можно утверждать, что Интернет, безусловно, является частью механизма для реализации конституционных прав граждан, зачастую он выступает базовым условием для возможности реализации конституционного права, например на доступ к информации. Вместе с тем необходимость признания права на доступ в Интернет неотъемлемым правом каждого гражданина в настоящее время отсутствует, так как не каждый инструмент, позволяющий человеку упростить и ускорить реализацию законных прав, должен быть обличен в субъективное право.
Подводя итог, стоит отметить следующее. Во-первых, цифровизация меняет общественный уклад, размывает юрисдикционные границы государств, создает серые зоны, не подпадающие под правовое регулирование, что ведет к высокому риску нарушения прав и свобод человека, признаваемых на конституционном уровне. Во-вторых, цифровизация существенным образом влияет на традиционные права граждан, перенося их реализацию в цифровое пространство, что требует принятия определенных гарантий того, что гражданин реализует свое право
СТАТ Ь И
в соответствии с законом. В-третьих, говорить о признании доступа в Интернет конституционным правом гражданина — необоснованно, так как Интернет обеспечивает корректную работу цифрового пространства с технической точки зрения и зачастую является ключевым механизмом, с помощью которого могут быть реализованы права граждан, то есть доступ в Интернет является составляющим механизмом для реализации традиционных конституционных прав граждан, но не самостоятельным субъективным правом.
Список литературы Влияние цифровизации на конституционные права граждан
- Аничкин Е. С. Модернизация конституционно-правового статуса личности в условиях формирования цифрового пространства. Конституционное и муниципальное право, 2019. № 12. С. 19-22.
- Арановский К. В., Князев С. Д., Хохлов Е. Б. О правах человека и социальных правах. Сравнительное конституционное обозрение, 2012. № 4. С. 61-91. EDN: PBQYKX
- Афанасьева С. А. Права человека в условиях цифровизации. Пробелы в праве в условиях цифровизации: сборник научных трудов / Д. Р. Алимова, С. А. Афанасьева, Л. Т. Бакулина и др.; под общ. ред. Д. А. Пашенцева, М. В. Залоило. М.: Инфотропик Медиа, 2022. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
- Витрук Н. В. Общая теория правового положения личности. М., 2008. С. 101.
- Демидов В. Н. Конституционное правосудие субъектов Российской Федерации в общегосударственной системе защиты прав и свобод человека и гражданина (методология, теория, практика): дис.... д-ра юрид. наук. М., 2017. С. 65.
- Концепция цифрового государства и цифровой правовой среды / под общ. ред. Н. Н. Черногора, Д. А. Пашенцева. М., 2021. С. 202.
- Лазарев В. В. Ограничение прав и свобод как теоретическая и практическая проблема. Журнал российского права, 2009. № 9. С. 45. EDN: KZVKSF
- Москалева О. Опасности, которые таит цифровизация. Жилищное право, 2017. № 10. С. 70.
- Паламарчук С. А. Реализация конституционно-правового статуса гражданина в сети Интернет. Философия права, 2016. № 6. С. 40. EDN: XRPHBV
- Талапина Э. В. Право на информацию в свете теории субъективного публичного права. Сравнительное конституционное обозрение, 2016. № 6 (115). С. 70-83. https://doi.org/10.21128/1812-7126-2016-6-70-83
- Хабриева Т. Я., Черногор Н. Н. Будущее права. Наследие академика В. С. Стёпина и юридическая наука / Т. Я. Хабриева, Н. Н. Черногор. М.: Российская академия наук: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации; ИНФРА-М, 2020. С. 107.
- Хуснутдинов А. И. Право на доступ в Интернет - новое право человека? Сравнительное конституционное обозрение, 2017. № 4. С. 109-123. https://doi.org/10.21128/1812-7126-2017-4-109-123
- Шахрай С. М. «Цифровая» Конституция. Судьба основных прав и свобод личности в тотальном информационном обществе. Вестник Российской академии наук, 2018. Т. 88. № 12. С. 1075-1082. https://doi.org/10.31857/S086958730003185-1
- Шваб К. Четвертая промышленная революция: перевод с англ. / Клаус Шваб. М.: Издательство «Э», 2017. 208 с.
- Щербович А. А. Конституционное право на доступ к Интернету: мировой опыт и выводы для России. Копирайт (Вестник Академии интеллектуальной собственности и Российского авторского общества), 2015. № 3. С. 57-71.