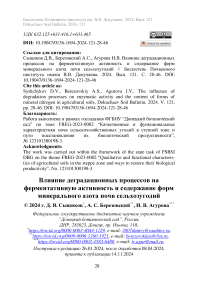Влияние деградационных процессов на ферментативную активность и содержание форм минерального азота почв сельхозугодий
Автор: Сыщиков Д.В., Березовский А.С., Агурова И.В.
Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 121, 2024 года.
Бесплатный доступ
Целью работы было изучение концентрации различных форм минерального азота и ферментов цикла азота в почвах сельхозугодий. В задачи исследований входило изучение содержания аммонийной и нитратной форм азота, а также активности уреазы и нитратредуктазы в почвах сельхозугодий на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Для исследования почв сельскохозяйственных угодий были выбраны модельные участки, расположенные в южной части Шахтерского района ДНР, представленные черноземами среднесмытыми мало-, слабо- и среднегумусированными. Контролем являлся участок со степной растительностью (чернозем обыкновенный мощный среднегумусный). Результаты проведенных исследований позволяют сделать выводы о развитии деградационных процессов на ряде модельных участков и об их влиянии на содержание аммонийного и нитратного азота в почвах сельхозугодий. Выращивание сельскохозяйственных культур с высоким уровнем выноса элементов минерального питания, склоновая поверхность участков, длительность возделывания зерновых культур на одних и тех же участках приводят к существенному снижению концентрации аммонийного и нитратного азота. Так, наиболее существенное снижение концентрации азота аммонийных соединений (на 77-82%) зафиксировано на модельных склоновых участках под кукурузой и подсолнечником. Анализ данных показал приуроченность обменного аммония к нижележащим генетическим горизонтам. Минимальная концентрация нитратов в пахотном горизонте зафиксирована при совместном влиянии таких неблагоприятных факторов, как: нерациональное расположение полей по элементам рельефа; нарушение условий севооборота; использование культур-предшественников с существенным уровнем выноса питательных элементов (пшеница, кукуруза). При изучении активности уреазы установлено, что низкое количество почвенных микроорганизмов, связанное с выращиванием кукурузы и подсолнечника, а также с развитием деградационных процессов различного генезиса, приводило к угнетению функционирования уреазы почв модельных участков. Максимальная активность уреазы наблюдалась на участках под озимой пшеницей и составила 68-72% по отношению к контрольным показателям. В результате проведенных исследований активности нитратредуктазы также установлено снижение ее значений на участках, использующихся для выращивания культур, формирующих большую фитомассу (кукуруза и подсолнечник).
Деградация почв, нитратный азот, аммонийный азот, ферменты, уреаза, нитратредуктаза
Короткий адрес: https://sciup.org/143184041
IDR: 143184041 | УДК: 632.125+631.416.1+631.465 | DOI: 10.19047/0136-1694-2024-121-28-46
Текст научной статьи Влияние деградационных процессов на ферментативную активность и содержание форм минерального азота почв сельхозугодий
Почвенный покров является основополагающим составным элементом земельных ресурсов страны, от состояния которого зависит продуктивность и устойчивость последних к деградацион-ным процессам. Не всегда возможно рассматривать урожай как критерий плодородия. К определяющим критериям состояния почв можно отнести такие показатели, как характеристики и режимы почв, а также их состав, поскольку в них заложены показатели изменений, обусловленных деградацией или мелиорацией. В связи с этим к объективному критерию плодородия почвы следует отнести оценку ее эколого-хозяйственного состояния, способности эффективно выполнять свои агрономические и экологические функции (Молчанов и др., 2017).
Очень долгое время в сельскохозяйственном производстве сохранялось устойчивое мнение о том, что черноземы – ресурс, из которого можно безнаказанно постоянно черпать те или иные энергетические запасы для жизнеобеспечения человека. Однако исследованиями многих ученых в последние десятилетия эта мысль опровергается. Так, с каждым годом уровень деградацион-ных процессов в черноземах возрастает, приводя зачастую к негативным последствиям (Кочетов и др., 2000; Корнейко, 2013). Исследования, посвященные изучению процессов агрогенной трансформации почв, выявлению влияния различных технологий на свойства почвенного покрова, оценке степени развития деграда-ционных процессов почв проводятся на территории России (Замо-таев и др., 2016; Столбовой, Гребенников, 2020; Белобров и др., 2020; Слабунова, Арискина, 2022). Признаками деградации почв являются увеличение значений обменной и гидролитической кислотности, изменение качественного и количественного состава почвенно-поглощающего комплекса, снижение запасов гумуса, а также степени обеспеченности элементами минерального питания, нарушение физических свойств почв и снижение ферментативной и биологической активности.
Основную роль в формировании плодородия почв и в продукционном процессе сельскохозяйственных культур выполняет азот как один из основных элементов минерального питания растений в связи с тем, что основная часть почвенного азота входит в состав гумуса и растений (Завалин и др., 2018). Особенности баланса азота в земледелии обусловлены тем, что он в процессах синтеза и распада органического вещества участвует в различных формах (окисленные NO 3 -, NO 2 -, NO-; восстановленные NH 4 +, NH 2 +) (Васильченко, 2014). Из ряда соединений почвенного азота, непосредственно усвояемых растениями, выделяются его минеральные формы – нитраты и аммоний, причем последний может находиться в почве не только в обменном, но и в необменном состоянии (Кудеяров, 1989).
Одним из основных критериев плодородия почвы является ее ферментативная активность. Любая почва характеризуется определенным уровнем активности тех или иных ферментов, что обусловлено их многообразием и количественным содержанием (Швакова, 2013). Почвы, подверженные существенному антропогенному воздействию, характеризуются измененным составом микроорганизмов, а также тенденцией к снижению биологической активности, что приводит к трансформации биогеохимических циклов биогенных элементов. Функционирование микроорганизмов цикла азота можно использовать в качестве интегрального показателя биологической активности почв и одного из главных критериев оценки плодородия. Уреаза – это фермент, который катализирует гидролиз мочевины до аммиака и диоксида углерода. Этот фермент поступает в почву в составе растительных остатков, органических и азотных удобрений, а также образуется в самой почве в качестве продукта превращения азотистых органических соединений (Дроздова и др., 2010). Нитратредуктаза – один из ключевых ферментов азотного обмена почвы, который используется как диагностический показатель ее состояния (Пронина, Баз-дырова, 2002; Казеев и др., 2003). Его функция заключается в восстановлении нитрат-иона до нитрит-иона.
Важность проведения фундаментальных научных исследований, связанных с изучением специфики процессов деградации почв, не вызывает сомнений. Целью исследований было изучение концентрации различных форм минерального азота, а также ферментов цикла азота в почвах сельхозугодий. В задачи исследований входило изучение содержания аммонийной и нитратной форм азота, а также активности уреазы и нитратредуктазы в почвах сельхозугодий на территории Донецкой Народной Республики (ДНР).
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
Объектами исследований являлись почвы. Исследования проводились на модельных участках южной части Шахтерского района ДНР. Для исследования почвенного покрова деградированных агроэкосистем были выбраны модельные участки различной степени деградации. При их выборе учитывались такие факторы, как распространенность типа нарушения в пределах района исследований, степень антропогенной трансформации, тип возделываемой культуры. Отбор проб почвы проводился в сентябре 2023 г.
Участок № 1. Участок со степной растительностью, режим абсолютного заповедания (с. Самсоново, Новоазовский район, 47°17'18.42" N; 38°10'47.75" E). Чернозем обыкновенный мощный среднегумусный.
Участок № 2. Участок со степной растительностью для выгона скота (с. Самсоново, Новоазовский район, 47°17'25.66" N; 38°10'25.32" E). Чернозем обыкновенный мощный среднегумусный.
Участок № 3. Поле под озимой пшеницей (с. Розовка, Шахтерский район, 48°10'04.6" N; 38°12'32.7" E). Чернозем обыкновенный малогумусный.
Участок № 4. Склоновый участок поля под озимой пшеницей, второй год монокультуры (с. Новоселовка, Шахтерский район, 48°09'40.1" N; 38°08'16.7" E). Посевы значительно загрязнены сорно-рудеральной растительностью: Ambrosia artemisiifolia L., Convolvulus arvensis L., Carduus crispus L., Bromus arvensis L. Чернозем обыкновенный среднесмытый малогумусный.
Участок № 5. Склоновый участок поля под подсолнечником (с. Верхняя Крынка, Шахтерский район, 48°10'47.9" N;
38°08'58.0" E). Чернозем обыкновенный среднесмытый слабо гумусированный.
Участок № 6. Поле под паром, первый год после подсолнечника (с. Розовка, Шахтерский район, 48°10'41.8" N; 38°15'07.2" E). Чернозем обыкновенный малогумусный.
Участок № 7. Склоновый участок поля под яровой пшеницей (г. Ждановка, Шахтерский район, 48°10'37.5" N; 38°16'06.1" E). Чернозем обыкновенный среднесмытый среднегумусный.
Участок № 8. Склоновый участок поля под озимой пшеницей (п. г. т. Нижняя Крынка, Шахтерский район, 48°06'13.9" N; 38°12'05.9" E). Чернозем обыкновенный среднесмытый малогумусный.
Участок № 9. Поле под пшеницей, второй год монокультуры (с. Ровное, Шахтерский район, 48°06'28.8" N; 38°33'51.9" E). Чернозем обыкновенный малогумусный.
Участок № 10. Поле под пшеницей, первый год после кукурузы (с. Ровное, Шахтерский район, 48°06'21.9" N; 38°33'57.5" E). Чернозем обыкновенный слабо гумусированный.
Участок № 11. Склоновый участок поля под озимой пшеницей (с. Рассыпное, Шахтерский район, 48°08'43.5" N; 38°35'49.3" E). Чернозем обыкновенный среднесмытый малогумусный.
Участок № 12. Склоновый участок поля под паром после пшеницы (с. Рассыпное, Шахтерский район, 48°08'46.6" N; 38°35'43.7" E). Чернозем обыкновенный среднесмытый малогумусный.
Участок № 13. Склоновый участок поля под паром после кукурузы (с. Рассыпное, Шахтерский район, 48°08'38.7" N; 38°35'49.9" E). Чернозем обыкновенный среднесмытый слабо гумусированный.
Описание почвенных разрезов проводили согласно общепринятым методикам (Методические рекомендации, 1999; Розанов, 1983). Отбор почвенных образцов проводили по почвенным горизонтам (Методы почвенной микробиологии, 1991).
Концентрация аммонийного азота (обменного аммония) определялась общепринятым методом (Практикум по агрохи- мии…, 2001). Содержание нитратного азота – по методу Гранд-валь-Ляжу (Практикум по агрохимии…, 2001). Активность уреазы исследовалась по Казееву (Казеев и др., 2003), нитратредуктазы – по Хазиеву (Хазиев, 1982). Статистическая обработка экспериментальных данных проводилась по общепринятым методам параметрической статистики на 95%-ном уровне значимости по Б.А. Доспехову (Доспехов, 1985).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ данных, представленных в таблице 1, показал, что распределение аммонийного азота в пахотном горизонте большинства модельных участков достаточно монотонно и составляет 62–79% по сравнению с контрольными показателями. Это связано с тем, что на накопление обменного аммония слабое влияние оказывают обработка почвы и предшествующая культура. Можно предположить, что потери аммонийного азота на формирование растительной биомассы в достаточной степени компенсируются как наличием в почве пожнивных остатков прошлых лет, так и внесением минеральных удобрений в дозах, предусмотренных региональной агротехнологией культивирования сельскохозяйственных растений. Наряду с этим выращивание сельскохозяйственных культур с высоким уровнем выноса элементов минерального питания, а также усиление процессов нитрификации, обусловленной улучшением аэрации при выведении полей севооборота под пар, привели к существенному снижению концентрации азота аммонийных соединений на 77–82% на модельных участках №№ 5, 6 и 11. Наиболее приближенными к показателям зональной почвы по содержанию обменного аммония были участки №№ 2 и 11, в генетических горизонтах которых статистически достоверные различия, по отношению к контролю, отсутствовали.
Изучение распределения аммонийного азота по почвенному профилю показало, что он преимущественно локализуется в нижележащих генетических горизонтах.
Таблица 1. Содержание аммонийного азота (мг N-NH 4+ /100 г почвы) в почвах сельскохозяйственных угодий
Table 1. Ammonium nitrogen content (mg N-NH 4+ /100 g soil) in soils of agricultural lands
|
Участок/ горизонт |
M ± m |
% к контролю |
Tst |
|
№ 1 А |
5.62 ± 0.09 |
– |
– |
|
№ 1 В |
6.27 ± 0.11 |
– |
– |
|
№ 2 А |
5.28 ± 0.16 |
94.0 |
1.85 |
|
№ 2 В |
5.97 ± 0.14 |
95.2 |
1.68 |
|
№ 3 А |
4.12 ± 0.22* |
73.3 |
6.36 |
|
№ 3 В |
4.88 ± 0.09* |
77.9 |
9.67 |
|
№ 4 А |
3.47 ± 0.03* |
61.6 |
22.4 |
|
№ 4 В |
4.19 ± 0.05* |
66.9 |
17.66 |
|
№ 5 А |
1.84 ± 0.02* |
32.7 |
40.98 |
|
№ 5 В |
2.42 ± 0.02* |
38.6 |
35.25 |
|
№ 6 А |
1.13 ± 0.09* |
20.1 |
34.29 |
|
№ 6 В |
1.67 ± 0.05* |
26.7 |
39.03 |
|
№ 7 А |
3.48 ± 0.41* |
62.0 |
5.12 |
|
№ 7 В |
4.02 ± 0.09* |
64.2 |
15.77 |
|
№ 8 А |
4.06 ± 0.16* |
72.1 |
8.62 |
|
№ 8 В |
4.37 ± 0.05* |
69.8 |
16.18 |
|
№ 9 А |
4.44 ± 0.16* |
79.0 |
6.54 |
|
№ 9 В |
4.72 ± 0.38* |
75.3 |
3.92 |
|
№ 10 А |
4.14 ± 0.16* |
73.7 |
8.12 |
|
№ 10 В |
4.73 ± 0.06* |
75.5 |
12.28 |
|
№ 11 А |
5.68 ± 0.13 |
101.1 |
0.38 |
|
№ 11 В |
6.15 ± 0.11 |
98.1 |
0.81 |
|
№ 12 А |
4.04 ± 0.29* |
71.8 |
5.22 |
|
№ 12 В |
4.37 ± 0.07* |
69.8 |
14.77 |
|
№ 13 А |
1.02 ± 0.03* |
18.1 |
47.99 |
|
№ 13 В |
1.45 ± 0.03* |
23.1 |
42.99 |
Примечание. Здесь и далее М – среднее значение признака, m – ошибка среднего, % – процент превышения значений по отношению к аналогичным почвенным горизонтам участка № 1, Tst – значения критерия Стьюдента, * – различия статистически достоверны при р < 0.05.
Note. Here and after, M – is the average value of the characteristic, m – is the error of the mean, % – is the percentage of values exceeding those of similar soil horizons in site No. 1, Tst – is the Student’s t-test value, * – is the differences are statistically significant at p < 0.05.
По нашему мнению, данный факт связан с тем, что преимущественная масса корневой системы выращиваемых растений, распределена именно в пределах пахотного горизонта, что приводит к активному поглощению данной формы минерального азота, а также ростом иммобилизации соединений аммония вследствие усиления фиксации NН 4 + глинистыми минералами. Наряду с этим в подпахотном горизонте почв модельных участков характер распределения обменного аммония по отношению к показателям зональной почвы был аналогичен отмеченному для пахотного горизонта.
При изучении содержания нитратного азота установлено, что, в отличие от обменного аммония, его концентрация в пахотном горизонте практически всех модельных участков существенно ниже последнего. Полученные результаты хорошо согласуются с результатами исследований В.О. Бусыгина с соавторами, которыми показано, что концентрации нитратов и аммония в почве не имеют прямой односторонней зависимости друг с другом (Бусыгин и др., 2019). Также следует отметить, что наиболее низкая концентрация нитратов в пахотном горизонте зафиксирована при совместном влиянии нескольких неблагоприятных факторов, таких как: нерациональное расположение полей по элементам рельефа, обуславливающее усиление внутрипочвенного и поверхностного выноса элементов; длительное возделывание зерновых культур на одних и тех же участках; использование в севообороте культур-предшественников с высоким уровнем выноса питательных элементов. Вероятнее всего, это и обусловило уменьшение количества нитратов на модельных участках №№ 5, 9, 10, 12 и 13 на 76–82% по сравнению с контрольными показателями (табл. 2).
На полях под озимой пшеницей (участки №№ 3, 8 и 11) снижение концентрации нитратного азота было выражено в меньшей степени, и его уровень находился в пределах 59–78% относительно зональной почвы, что, по нашему мнению, связано с видовыми особенностями культуры. Кроме того, низкий уровень антропогенного влияния на участке № 2 обусловил отсутствие статистически достоверных различий в содержании нитратов по сравнению с контролем.
Таблица 2. Содержание нитратного азота (мг N-NО 3- /100 г почвы) в почвах сельскохозяйственных угодий
Table 2. Nitrate nitrogen content (mg N-NO 3- /100 g soil) in soils of agricultural lands
|
Участок/ горизонт |
M ± m |
% к контролю |
Tst |
|
№ 1 А |
3.67 ± 0.04 |
– |
– |
|
№ 1 В |
1.82 ± 0.11 |
– |
– |
|
№ 2 А |
3.54 ± 0.08 |
96.5 |
1.45 |
|
№ 2 В |
1.64 ± 0.04 |
90.1 |
1.54 |
|
№ 3 А |
2.18 ± 0.01* |
59.4 |
36.14 |
|
№ 3 В |
0.73 ± 0.05* |
40.1 |
9.02 |
|
№ 4 А |
1.42 ± 0.04* |
38.6 |
39.69 |
|
№ 4 В |
0.72 ± 0.09* |
39.8 |
7.89 |
|
№ 5 А |
0.9 ± 0.01* |
24.4 |
61.73 |
|
№ 5 В |
0.63 ± 0.05* |
34.7 |
9.92 |
|
№ 6 А |
1.42 ± 0.03* |
38.7 |
42.52 |
|
№ 6 В |
0.71 ± 0.02* |
39.3 |
10.11 |
|
№ 7 А |
1.26 ± 0.05* |
34.3 |
38.2 |
|
№ 7 В |
0.64 ± 0.04* |
35.1 |
10.4 |
|
№ 8 А |
2.25 ± 0.01* |
61.4 |
32.24 |
|
№ 8 В |
0.77 ± 0.02* |
42.5 |
9.56 |
|
№ 9 А |
0.66 ± 0.03* |
18.0 |
55.61 |
|
№ 9 В |
0.16 ± 0.02* |
8.6 |
15.2 |
|
№ 10 А |
0.91 ± 0.03* |
24.8 |
51.77 |
|
№ 10 В |
0.34 ± 0.01* |
18.9 |
13.76 |
|
№ 11 А |
2.87 ± 0.07* |
78.2 |
10.08 |
|
№ 11 В |
0.77 ± 0.03* |
42.2 |
9.43 |
|
№ 12 А |
0.96 ± 0.01* |
26.1 |
58.94 |
|
№ 12 В |
0.59 ± 0.01* |
32.3 |
11.44 |
|
№ 13 А |
0.88 ± 0.03* |
24.0 |
50.1 |
|
№ 13 В |
0.61 ± 0.04* |
33.5 |
10.63 |
Улучшение гидротермических условий и достаточно высокая биологическая активность верхнего слоя почвы, вероятнее всего, и обусловили максимальный уровень накопления нитратного азота в пределах пахотного горизонта по сравнению с нижележащим горизонтом (табл. 2). Характер распределения данной формы минерального азота в нижележащих почвенных горизонтах модельных участков по отношению к контрольным показателям был аналогичен таковому для пахотного горизонта.
При изучении активности уреазы получены данные, которые демонстрируют существенное варьирование показателя активности данного фермента, что зависит от расположения модельного участка, степени его деградации, почвенного горизонта (табл. 3).
Максимальная активность уреазы наблюдалась на участках под озимой пшеницей (участки №№ 3 и 11) и составила 68–72% по отношению к контрольным показателям. Практически аналогичные показатели были получены и на участке под озимой пшеницей (участок № 7). Высокие показатели ферментативной активности на данных участках обусловлены наличием большого количества растительных остатков, которые являются источником фермента и одновременно служат субстратом для его функционирования. Второй год монокультуры, а также выращивание кукурузы негативно сказались на уреазной активности почвы. Так, на участках №№ 4 и 10 активность уреазы оказалась несколько ниже и составила 41–49% по отношению к контролю.
Наиболее низкие показатели уреазной активности были зафиксированы на участках под кукурузой и подсолнечником (участки №№ 5, 6, 13) и составляли 16–36% по отношению к показателям зональной почвы.
Изменение активности уреазы по горизонтам имеет четкую картину распределения. Так, на всех мониторинговых участках ее активность в горизонте А на 33–54% выше, чем в горизонте В, так как уреаза иммобилизуется в месте своего образования, а именно в верхнем горизонте почвы, и слабо мигрирует по почвенному профилю.
Таблица 3. Активность уреазы (мг NH 3 /10 г почвы за сутки) в почвах сельскохозяйственных угодий
Table 3. Urease activity (mg NH 3 /10 g soil per day) in soils of agricultural lands
|
Участок/ горизонт |
M ± m |
% к контролю |
Tst |
|
№ 1 A |
44.0 ± 1.77 |
– |
– |
|
№ 1 B |
28.9 ± 1.03 |
– |
– |
|
№ 2 A |
60.5 ± 3.40* |
137.7 |
4.32 |
|
№ 2 B |
39.1 ± 0.80* |
135.3 |
7.83 |
|
№ 3 A |
31.6 ± 0.64* |
71.8 |
6.60 |
|
№ 3 B |
20.6 ± 0.53* |
71.4 |
7.15 |
|
№ 4 A |
21.7 ± 0.96* |
49.3 |
6.17 |
|
№ 4 B |
14.0 ± 0.84* |
48.6 |
11.19 |
|
№ 5 A |
16.1 ± 0.33* |
36.6 |
12.40 |
|
№ 5 B |
9.7 ± 0.31* |
33.5 |
17.93 |
|
№ 6 A |
10.4 ± 0.27* |
23.7 |
15.62 |
|
№ 6 B |
4.8 ± 0.10* |
16.7 |
23.33 |
|
№ 7 A |
28.9 ± 0.69* |
65.6 |
17.69 |
|
№ 7 B |
17.4 ± 0.22* |
60.2 |
10.97 |
|
№ 8 A |
18.3 ± 0.21* |
41.6 |
8.49 |
|
№ 8 B |
11.4 ± 0.36* |
39.5 |
16.07 |
|
№ 9 A |
20.2 ± 1.16* |
46.0 |
12.16 |
|
№ 9 B |
13.0 ± 0.13* |
45.2 |
15.30 |
|
№ 10 A |
19.6 ± 0.61* |
44.6 |
12.71 |
|
№ 10 B |
12.0 ± 1.13* |
41.6 |
11.08 |
|
№ 11 A |
31.9 ± 1.46* |
72.6 |
10.64 |
|
№ 11 B |
19.8 ± 0.55* |
68.4 |
7.83 |
|
№ 12 A |
14.9 ± 0.79* |
33.9 |
6.22 |
|
№ 12 B |
8.2 ± 0.83* |
28.5 |
15.66 |
|
№ 13 A |
10.7 ± 0.19* |
24.3 |
16.35 |
|
№ 13 B |
5.9 ± 0.43* |
20.5 |
20.61 |
Распашка почв ведет к угнетению активности уреазы, так как данный фермент активизируется преимущественно в верхнем, гумусоаккумулятивном горизонте. На склоновых участках также отмечено снижение функционирования данного фермента в связи с вымыванием органической составляющей. Неодинаковая интенсивность выноса минеральных форм азота сельскохозяйственными культурами обусловила различия и в активности уреазы. Низкое количество почвенных микроорганизмов, связанное с культивированием кукурузы и подсолнечника, а также с развитием де-градационных процессов различного генезиса, привело к угнетению функционирования уреазы почв модельных участков, а уровень ее активности, согласно Гапонюку и Малахову, определен как “средний” (Казеев и др., 2003).
При исследовании активности нитратредуктазы установлено, что регулярное использование минеральных азотсодержащих удобрений, которые являются субстратом для функционирования этого фермента, существенно повысило уровень ее активности в почвах изученных модельных участков (табл. 4).
Максимальные показатели активности нитратредуктазы были отмечены на мониторинговых участках №№ 3, 4, 7, 8, 9, 11 под озимой и яровой пшеницей и составили 124–288% относительно контрольных показателей.
На участках №№ 5, 6 и 13, которые использовались для выращивания культур с большой фитомассой (кукуруза и подсолнечник), выявлен гораздо меньший уровень функционирования данного фермента, составивший 23–52% по отношению к контрольному участку. Следует отметить, что практически во всех случаях активность нитратредуктазы в горизонте B выше, чем в горизонте A, так как максимальная активность фермента осуществляется в анаэробных условиях и при повышенной влажности.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты проведенных исследований позволяют сделать выводы о развитии деградационных процессов в ряде модельных участков и их влиянии на содержание аммонийного и нитратного азота в почвах сельхозугодий. Выращивание сельскохозяйственных культур с высоким уровнем выноса элементов минерального питания, расположение полей, их уклон, длительность возделывания зерновых культур на одних и тех же участках приводят к существенному снижению концентрации азота аммонийных и нит- ратных соединений.
Таблица 4. Активность нитратредуктазы (мг NO 3- /10 г почвы за сутки) в почвах сельскохозяйственных угодий
Table 4. Nitrate reductase activity (mg NO 3- /10 g soil per day) in soils of agricultural lands
|
Участок/ горизонт |
M ± m |
% к контролю |
Tst |
|
№ 1 A |
38.1 ± 1.26 |
– |
– |
|
№ 1 B |
14.4 ± 2.77 |
– |
– |
|
№ 2 A |
34.2 ± 1.87 |
89.7 |
1.74 |
|
№ 2 B |
13.7 ± 0.31 |
95.6 |
0.23 |
|
№ 3 A |
66.6 ± 0.42* |
174.8 |
21.46 |
|
№ 3 B |
41.4 ± 2.56* |
287.9 |
7.17 |
|
№ 4 A |
57.4 ± 1.66* |
150.8 |
9.29 |
|
№ 4 B |
20.6 ± 2.47 |
143.0 |
1.66 |
|
№ 5 A |
14.8 ± 1.97* |
38.9 |
9.96 |
|
№ 5 B |
12.8 ± 0.66 |
89.2 |
0.55 |
|
№ 6 A |
18.6 ± 0.74* |
48.9 |
13.31 |
|
№ 6 B |
7.5 ± 0.84* |
52.5 |
2.36 |
|
№ 7 A |
56.6 ± 1.08* |
148.6 |
11.18 |
|
№ 7 B |
19.3 ± 1.16 |
134.5 |
1.65 |
|
№ 8 A |
50.0 ± 0.37* |
131.2 |
9.04 |
|
№ 8 B |
20.2 ± 0.87 |
140.4 |
2.00 |
|
№ 9 A |
48.7 ± 0.96* |
127.8 |
6.68 |
|
№ 9 B |
21.5 ± 0.85* |
149.5 |
2.46 |
|
№ 10 A |
47.2 ± 1.08* |
123.8 |
5.46 |
|
№ 10 B |
22.2 ± 0.32* |
154.2 |
2.79 |
|
№ 11 A |
46.3 ± 0.92* |
121.5 |
5.26 |
|
№ 11 B |
17.8 ± 0.97 |
124.0 |
1.18 |
|
№ 12 A |
24.2 ± 3.18* |
63.4 |
4.07 |
|
№ 12 B |
8.60 ± 1.40 |
60.1 |
1.85 |
|
№ 13 A |
9.10 ± 1.23* |
23.9 |
16.44 |
|
№ 13 B |
5.40 ± 1.44* |
37.5 |
2.87 |
При изучении активности уреазы установлено, что низкое количество почвенных микроорганизмов, связанное с выращива- нием ряда сельскохозяйственных культур, а также с развитием деградационных процессов различного генезиса, приводило к угнетению функционирования уреазы почв модельных участков. Наиболее низкие показатели уреазной активности были зафиксированы на участках под кукурузой и подсолнечником (участки №№ 5, 6, 13) и составляли 16–36% по отношению к контрольным показателям. В результате проведенных исследований активности нитратредуктазы также установлено снижение ее значений на участках, использующихся для выращивания культур с большой биомассой (кукуруза и подсолнечник).
Список литературы Влияние деградационных процессов на ферментативную активность и содержание форм минерального азота почв сельхозугодий
- Белобров В.П., Дридигер В.К., Юдин С.А. Влияние технологий земледелия на морфометрические признаки черноземов // Бюллетень Почвенного института имени В.В. Докучаева. 2020. № 102. С. 125-142. https://doi.org/10.19047/0136-1694-2020-102-125-142.
- Бусыгин В.О., Бунин А.А., Даниленко Ю.А. Содержание нитратной и аммонийной форм азота в почвах санатория “Сосновая роща” и обеспеченность ими растений // Молодой ученый. 2019. № 5(243). С. 85- 88.
- Васильченко Н.И. Агрогенная трансформация азота в почвах северного Казахстана // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2014. № 6(116). С. 67-71.
- Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). М.: Изд-во “Агропромиздат”, 1985. 351 с.
- Дроздова Н.И., Свириденко В.Г., Хаданович А.В., Панфиленко О.А. Исследование ферментативной активности дерново-подзолистых почв // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. 2010. № 3(60). C. 84-88.
- Завалин А.А., Соколов О.А., Шмырева Н.Я. Азот в агросистеме на черноземных почвах. М.: РАН, 2018. 180 с.
- Замотаев И.В., Белобров В.П., Курбатова А.Н., Белоброва Д.В. Агрогенная и постагрогенная трансформация почв Льговского района Курской области // Бюллетень Почвенного института имени В.В. Докучаева. 2016. № 85. С. 97-114. https://doi.org/10.19047/0136-1694-2016-85-97-114.
- Казеев К.Ш., Колесников С.И., Вальков В.Ф. Биологическая диагностика и индикация почв: методология и методы исследований. Ростов н/Д: изд-во РГУ, 2003. 216 с.
- Корнейко Н.И. Мониторинг кислотности пахотных почв в Белгородской области // Успехи современного естествознания. 2013. № 9. С. 16-24.
- Кочетов И.С., Лукин С.В., Тютюнов С.И. Экологические аспекты использования средств химизации в эрозионно-опасных ландшафтах // Агрохимический вестник. 2000. № 2. С. 15-18.
- Кудеяров В.Н. Цикл азота в почве и эффективность удобрений. М.: Наука, 1989. 216 с.
- Методические рекомендации по морфологическому описанию почв / сост. Дюкарев А.Г., Пологова Н.Н., Герасько Л.И. Томск: Изд-во СО РАН, 1999. 39 с.
- Методы почвенной микробиологии и биохимии / под. ред. Звягинцева Д.Г. М.: Изд-во МГУ, 1991. 304 с.
- Молчанов Э.Н., Савин И.Ю., Разумов В.В., Макаров О.А., Цветнов Е.В., Ермияев Я.Р., Шишконакова Е.А., Харзинов С.М. Деградация горных черноземов северного склона джинальского хребта (Центральный Кавказ) и ее эколого-экономические последствия // Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева. 2017. № 87. С. 86- 99. https://doi.org/10.19047/0136-1694-2017-87-86-99.
- Практикум по агрохимии / под ред. Минеева В.Г. М.: Изд-во МГУ, 2001. 689 с.
- Пронина Н.Б., Баздыров Г.И. Особенности ферментативной активности почв и растений в условиях эрозионного стресса // Известия ТСХА. 2002. Вып. 2. С. 50-65.
- Розанов Б.Г. Морфология почв. М.: МГУ, 1983. 320 с.
- Слабунова А.В., Арискина Ю.Ю. Оценка степени деградации почв на примере сельскохозяйственных земель Куйбышевского района Ростовской области // Экология и водное хозяйство. 2022. Т. 4. № 1. С. 14-31. https://doi.org/10.31774/2658-7890-2022-4-1-14-31.
- Столбовой В.С., Гребенников А.М. Индикаторы качества почв пахотных угодий РФ // Бюллетень Почвенного института имени В.В. Докучаева. 2020. № 104. С. 31-67. https://doi.org/10.19047/0136-1694-2020-104-31-67.
- Хазиев Ф.Х. Системно-экологический анализ ферментативной активности почв. М.: Наука, 1982. 204 с.
- Швакова Э.В. Изменение активности уреазы при повышенных содержаниях тяжелых металлов (Pb, Zn, Cu) в почве // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. 2013. № 2. С. 61- 66.