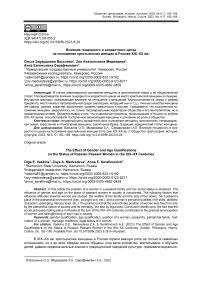Влияние гендерного и возрастного ценза на положение крестьянских женщин в России XIX-XX вв.
Автор: Васькина О.Э., Медведева З.А., Серафимович А.Е.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Культура
Статья в выпуске: 8, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется положение женщины в крестьянской семье и ее общественный статус. Рассматривается влияние гендерного и возрастного ценза на место крестьянской женщины в социуме. Изучаются факторы, оказывающие влияние на отношение к женщинам: благосостояние ее семьи и размер приданого, место мужа в патриархальной среде (наследник, младший сын и т.д.), личные качества женщины (ее навыки, умения, характер, воспитание, уровень грамотности и прочее). Указывается, что подчиненное положение женщины закреплялось не только патриархальным характером общества и его менталитетом, но и юридическими актами. Делается вывод о том, что социальные процессы, происходящие в России на рубеже ХIX-XX веков, способствовали постепенной эмансипации женщины и усилению ее роли в обществе.
Гендерный ценз, возрастной ценз, положение женщины, крестьянство, патриархальная семья, взросление и становление женщины, заключение брака, традиции, юридический статус женщины
Короткий адрес: https://sciup.org/149143463
IDR: 149143463 | УДК: 94(47).08-055.2 | DOI: 10.24158/fik.2023.8.28
Текст научной статьи Влияние гендерного и возрастного ценза на положение крестьянских женщин в России XIX-XX вв.
нравственные и религиозные ценности, заботились о здоровье домочадцев, участвовали в трудовой жизни семьи). Однако их положение было ограничено гендерным и возрастным цензом. Следует отметить, что мы в первую очередь рассматриваем положение девочек и молодых женщин в обществе, так как их статус был мобильным и постоянно менялся.
Гендерный критерий был основан на представлении о вторичности и несамостоятельности женщины. Мужчина владел собственностью и распоряжался ею, являлся главой семьи, обеспечивал семью средствами существования. Он принимал участие в жизни крестьянской общины, определял стратегию развития семьи: вступление в брак, наследственные отношения и т.д. Женщина считалась менее значимой и имела гораздо меньше прав и возможностей. Активность ее была направлена в первую очередь на семью, а самое главное – на продолжение рода и заботу о детях. Так, еще до рождения ребенка, будущая мать заботилась о формировании желательных свойств его характера, поэтому соблюдала определенные правила, предписания и запреты. Красота зависела от того, на что обращала внимание беременная. Ей предписывалось смотреть на красивых, благочестивых, добрых и трудолюбивых людей. И. И. Шангина отмечает, что беременной предлагалось есть клюкву и бруснику, чтобы дочка была румяной, укроп – чтобы у нее оказались красивые глаза и пушистые ресницы. Ей нельзя было браниться и много спать, иначе дочка родится злой и ленивой (Шангина, 2007: 8).
Ребенка сразу после рождения приобщали к человеческому сообществу, подчеркивая его отделение от мира природы: громко объявлялся пол ребенка, нарекали его согласно святцам и «правили» (придавали определенную форму и твердость частям его тела, вытягивали руки и ноги, массажировали спину и живот). Чтобы обозначить половую идентификацию, девочкам пуповину обрезали на гребне, прялке или веретене, то есть предметах, ассоциирующихся с женским началом. Детей заворачивали в старые вещи, тем самым сохраняя преемственность и связь с семьей, передавая лучшие качества родителей (трудолюбие, кротость, благочестие, добрый нрав).
После окончания кормления грудью перед дочерью близкие раскладывали различные вещи, связанные с женской долей (веретено, пяльцы, челнок) и разрешали ей взять любой из этих предметов, символизирующих женское начало: к какому из этих предметов, девочка потянется рукой, в том деле и будет особенно искусна (Шангина, 2007). Данная традиция сохранилась и поныне, изменились только предметы, предлагаемые для выбора (книга, деньги, ключи и др.).
Дитя старались крестить как можно скорее (спустя несколько дней, реже – недель) после рождения. Подобный разброс сроков был связан с удаленностью от храма. Полагали, что в противном случае злой и нечистый дух (лукавый) подменит младенца. Обращает на себя внимание тот факт, что ребенок хоть и причислялся к социуму, во многом его относили к миру природы, он не являлся полноценным человеком, даже его половая принадлежность четко не обозначалась. По замечанию Т.А. Бернштам, по отношению к новорожденному применяли «внеполовые» названия, обращая внимание на особенности поведения и развития: дитя, чадо; «кувяка» – издающий звук; «слюдяник» – пускающий слюни; «кутыш» – завернутый; «паполза» – не умеющий ходить, ползающий; «вьюнчик» – подвижный. Вообще, до подросткового возраста ребенка называли малой, мелочь, детина (Бернштам, 1988: 25).
Дети с малого возраста включались в домашние дела и хозяйственную жизнь в целом. В частности, девочек приобщали к «женской доле»: учили нянчить детей, готовить еду, прясть, вышивать. С 5–6 лет девочка помогала матери, собирала для себя приданое, украшала вышивкой платочки, полотенца и др. Ребенка обучали не только практическим навыкам, но и пытались усилить их магическими средствами. Например, первую спряденную нить сжигали, а пепел давали съесть, запить и закусить хлебом (обращает на себя внимание тот факт, что в этом обряде используют комплекс стихий: огонь, воду и хлеб как продукт, порожденный землей).
Девочке вручали собственную прялку и веретено, чтобы со временем она смогла спрясть, соткать и сшить себе наряд. Ритм трудовой жизни определялся временами года: зимой в основном занимались рукоделием, весной начинали земледельческие работы (подростки уже знали, когда сеять те или иные культуры), летом работали в поле и в огороде (заготавливали сено, выращивали лен, коноплю и др.).
Приобщение к выполнению хозяйственных работ происходило постепенно, с учетом возрастных и физических особенностей девочки. Со временем за ней закрепляли посильные обязанности, такие как: приготовление корма для скота, мытье посуды, уборку в доме и во дворе, присмотр за младшими и стариками. Примерно с восьмилетнего возраста девочка могла работать по найму «пестуньей» или «смотреей» (нянькой). За работу во время страды платили 3–5 рублей, но в основном работали за еду (Бернштам, 2009: 116).
Включением в трудовую деятельность, а также нравственным воспитанием детей, в основном занималась мать. Она прививала принципы послушания старшим, учила покорности, кротости, скромности, сдержанности, достоинству, коллективизму, справедливости, уважительному отношению к нормам религии и морали, традиционным христианским ценностям. В процессе воспитания детям внушали мысль о необходимости повиновения традициям, семье, а девочкам – еще и будущему мужу. Мальчики были более самостоятельными, так как их готовили к роли хозяина, главы семьи.
Семья постепенно включала ребенка в религиозную жизнь, обучала молитвам, поощряла чтение псалтыря, молитвословов, знакомила с житиями святых. Дети также ходили на исповедь и принимали причастие, соблюдали посты и праздники, ежедневные молитвы были обязательны.
К концу подросткового периода процесс формирования трудовых навыков уже был закончен, и девушка считалась «годной» к замужеству. Удачный брак и последующее материнство считались основной задачей женщины. Приданое собиралось с ранних лет и постоянно пополнялось. Его размеры определяли дальнейшую семейную жизнь. Хорошее приданое позволяло найти достойного жениха из обеспеченной семьи, что подразумевало в будущем сытую жизнь и достойное положение в семье мужа, ведь именно жена распоряжалась своим добрачным имуществом. Она же являлась хозяйкой производимых ею продуктов, а именно: пряжи, кудели, холста и т.д. У чувашей, например, степень независимости женщины, статус и место в семье мужа во многом определялись именно размером приданого. Состоятельная новобрачная, в отличие от бедной, имела авторитет и самостоятельность, ей реже поручали выполнять тяжелую работу в хозяйстве1. В других российских губерниях, например, в Архангельской, деньги от продажи масла, молока, яиц, кур составляли личную собственность женщины и назывались «женскими» или «масляными» деньгами. Имущество, принадлежащее женщине, обозначали словом «бабина»2. В приданое входили не только одежда, обувь, постельные принадлежности, но и домашние животные.
Маркером «взрослости» являлась не только одежда, но и обращение к девушке, ее начинали называть уже полным, а не сокращенным именем, иногда даже по имени и отчеству.
Внешняя привлекательность ценилась, однако обращали внимание не столько на миловидность, сколько на общую стать, дородность. О привлекательной девушке говорили: «Девка из себя видная, румяная, толстая – страсть красивая!»3. При переходе девочки подростка в группу взрослых девушек «на выданье» особое внимание уделяли ее репутации. Образцовая невеста должна быть здоровой, умелой, «смирной», происходить из уважаемой семьи. В противоположность ей «никудышная девка» плохо прядет и ткет, плохо работает, она неряшлива, неопрятна, груба, непочтительна и развязана. Излишнюю бойкость крестьяне не одобряли.
Официально взрослым считался человек, имеющий право заключить брак: указом № 3807 от 19 июля 1830 г. устанавливался минимальный возраст вступления в брак для мужчины – 18 лет, для женщины –16 лет4.
Предполагалось, что в возрасте 15–16 лет начинается период, когда развитие девицы достигает пика, и который должен закончиться замужеством. Как правило, вступление в этот этап сопровождалось различными обрядами, подчеркивающими новое, более высокое положение девушки, физиологическую зрелость, способность зачать, выносить и родить здорового ребенка, то есть выполнить свое предназначение. Она фактически становилась невестой, «славницей», входила «в самую пору». Девушек называли «растовая», «красава», «поспелка» (Бернштам, 1988: 28).
В семьях, где имелось несколько детей, соблюдалась строгая очередность: старший ребенок должен был жениться или выйти замуж раньше, чем младший. Несоблюдение данного правила осуждалось моралью, считалось, что это нарушит естественный, а значит, правильный ход событий и повлечет за собой неисчислимые беды и несчастья. Старшую дочь наряжали, подчеркивая ее миловидность и благосостояние семьи, ее отпускали на посиделки и гуляния, младших дочерей сознательно отодвигали на второй план. Когда происходило сватовство, младшую дочь отсылали из дома.
Если этот период не заканчивался свадьбой, девушка становилась «застарелой», «пере-староком», «подстароком» и т. п. (Бернштам, 1988: 29). Ее поведение не одобрялось общиной, так как она не исполнила свой долг перед Богом, миром, семьей, тем самым совершив большой грех, могущий привести к тяжелым последствиям. Социальный статус старой девы существенно понижался, она не принимала участия в гуляниях молодежи и не входила в круг взрослых замужних женщин. В правовом и экономическом отношении ущербность вековухи выражалась в том, что она могла наследовать только имущество матери, поэтому даже в том случае, если ее брали на содержание старшие братья, она, тем не менее, старалась заработать себе на жизнь самостоятельно. «Засидевшиеся» в девках выполняли важные ритуальные функции: например, они наряду со вдовами проводили обряд «опахивания», ограждая деревню, ее жителей и скот от моровых поветрий. Некоторые из них становились знахарками. Кроме того, грамотные могли обучать детей и женщин основам грамотности, хотя крестьяне скептически относились к образованию девочек. «Для чего девкам учиться? Парень хоть на службу пойдет, а девкам только письма женихам писать»; «Прижмись к прялке и сиди, прясть можно и неграмотной. Вон [брат] Федя еще распишется где, а тебе не нужно…»1.
Стародевичья доля была незавидной, поэтому многие предпочитали пусть даже не очень удачный, но брак. Чтобы его заключить, и сама девушка (своим поведением) и ее семья всячески подчеркивали положительные качества девицы. Наряду с этим верили, что помощь святых, магия, обрядовые действия обеспечат необходимый результат, а именно брак. К любовной магии прибегали, чтобы обеспечить взаимность, присушить, приворожить избранника. Использовали различные приворотные зелья, определенные ритуалы и заговоры. Существовала устойчивая традиция применения любовной магии в народе. Ее также изучали этнографы, историки, филологи, публикуя результаты своих работ (рис.1):
ю, Заюаорм ратною челэвлла, идущаю на воину ga , я рпб> (текой-то), но пяти узловъ всякому стрьльцу V^7 нону, невврппиу на иищадяхъ, луках» н нснкоиъ рзтвонг "^ д!и. Вы, узлы, заградите стрельцам» всъ пущ и дороги, зы!" ните вс» питали, опутайте всЬ лукп, повяжите все рата ‘ opysie. и стрельцы бы изъ пищалей ие били, стрелы бы ^ до иена не долетали, все ратвыя оружия аевк нс побивала Вь яо*хъ узлах» сила могуча, сила могуча змеиная сокрыта отъ onia дву на десять глпваго, того зшя страшнаго. что при' летел со Окшиъ-морй, со петрова Буяна, со нгднаго дона тот эмо, что убит» дпупадссятью богатырями подт. дпуиВде-сатью дубами; нт. моих» узлах» зашиты моей почвхою знтн-пыя головы. Заговариваю я раба (такого-то) ратного человека идущего на войну ■ ноимь ар»пким1 загопоронт., *ptuno пи крепко. (Тама асе. Т, 7, Сл*. Ск. Рде. Нар. Сахарова).
ЗАГОВОРЫ ЛЮБОВНЫЕ.
-
1 . Зпюсорг молодца на любовь красной дговнц». Не мор-6 ■ на 0 кип»,' на остров» па БуанТ дожить тоска; бьется тоска, убивается тоска, съ доски пъ воду, пэт- воды въ полымя, изъ полымз выбхгалъ сатаннии, нрнчнтъ: „Новуплта Романея, бегл поскорЪе, дуй раб» (такой-то) пт. губы, пъ зубы вь ол костя н пакости, въ на гбло билое, въ-ев сердце ретивое, пъ ед ' печень черную, чтобы рпбп (такая то) тосковала всяк® час», • всякую минуту, по полуд плит., по полуночамч тля бы ие за-ълв, пнлй бы не звпнлв, спялаби, не заспала, а исе бы тосковала, чгобъ 6 ей быль лучше чужа го молодца, лучше родном отца, лучше родной матери, лучше роду племсвя. Зам икаю свой заговор т. сеиьюдесатыа-семыо замками, сомью-дегятып-селью цышкц, бросаю ключи иъ Ок|алъ ияре. п^1 : бблъ Горючи книень Алатырь,. Кто «удрсиШ меня взыщется* КТО перетаскает» посокъ изъ всего мора, тотъ отгонит! тоску? Г<дол. Русс. Нар. Tomb 1. Сахарова. 1841 ь-Л ,
-
2 Эя1морг ДиЯ любск. Исполнена оси аелмя дивностр- КК1 на морила Dgiam „в цстривр пл Буянй есть горючи камС-п-Алатырь, на том» каин» устроен» огнешивмая баня; М- го •ant лежнп разжигаемая доска, на той. додаЧу тридцать три
. кя тоски, КИДаннси iv««* •• ортадм 1 мели hit rue»"- ^^ цзъ угла в» угол, отъ поле до потолка, сГб1.ы ^ дД Оу/а п дороги и перепутья, воздухом» и vrt,X’ Мечите :ь тоски, кины ось тоски пъ буйную ем i олову, ,ер0* • ^ ^^ пъ асяии ОЧИ, 01. спхпрпия уста, 31 ре. ^ TUJl лае иг ее /**> 3 ри^уик вь «блю и хот?ны:, ы> «со 1'тело 6*100. н ио всю кровь горячую, И ВО BCD КОСТЯ, Я ВО f*t c,c?Bsu, гь 70 сустововъ, оолусустявосгь Н подсуетмоои; Эв вс$ ее »ч*ы al 70 Ж1иъ* “Wy*01 ° оодяил*1.къ, чтобы ^ тосктшла. юроопл», племла Си и ридяли но нем лезь, но гежь час!, го всякое племя: и8М»-61 пробыть ио могла, кап. рысь баяъ води. Юмились би, бросалягь бы нуь ткииил ат оюикс. ПЗ» днореИ вз дяерн, нзь eopori ri ворота, па ись пут» г xopoiM, п перепутья сь тропетомъ, гужевье*!, сь плачем» и рыдаяьймг, siuo епгплю шла бы и рыдало в про-■ бытьбезъ того нн ип нуты ие могла., Ду миля бт. обь дем» ие задулваа, спала бь не заспала, 1ии бы во затла, пнли въ . ие яанила н вс боялась бы ничего, чтоб» аиъ ей казался мв-■ лбе entry билаго, uiutc солнца преспВтляго, мядее луны пре-красицо, внл1е всехт, и даже wiute сид своего но всякое ни ■олоду, под» полцг, ля перекрои и ии исходе месяца. Cie слово есть утвержден!» н укреолотс, нжъ ас утверждается в . укрепляется, я замыкается. Ащо ли кто отъ челивСКЪ, грогй «ояи, покусится отмыкать страхъ сей, то буди, Яко червь въ евинц-В оръховомъ. И впчбмъ, ни аероиъ, пи воэлухом», ни бурею, ни водою дЪло сто не отмыкается. (Там» асе. Томэ Г. 7842. Ск. Русс. Пар. Сахарова}. " "
■ ■ 3. Затвора полюбовнию молодч» но лю5одь краской д»- 9ечы- За моремъ, за Хвалыискннъ, во видном» город», ио ке-' «здонъ тереит сидит» добрый иолодец-ь, заточеиъ во неволи, зякрмщ-ь вг семьдесать-семь ц!пей, за семьдеСагь-СежЬ дм. **е - и двери заперты семмодееятью замками, семьюдесятью . врущий. Никто добрп иододца пзт> неводи не ослоболигь, " ЛОбра молодца до сыта не накормить, ДО пыша не ва t>*t"b‘ ПРНходвла къ пену родная матушке (такая-то) во сле-Г“Ъ г°р»чнхъ, Миле молодца сытой медовой, кормила молодца ="--HtrflBol| крупой, а кормивши молодца свив прнговарнваля. с=екагь бы молодцу по чнету полю, но искать бы молмпу
Рисунок 1 – Заговор для любви 2
Figure 1 – Conspiracy for love
Для многих женщин магические средства были последней надеждой для создания семьи.
В традиционном обществе после заключения брака женщина получала статус замужней женщины – «бабы», до рождения ребенка ее называли «молодуха». Статус новобрачной в семье мужа определялся целым комплексом критериев: размером приданого, положением семьи родителей, ее собственными навыками и умениями, местом и ролью мужа в большой семье (она становилась старшей или младшей невесткой). Если муж был младшим ребенком в семье, то его супруга в первое время никаким семейным имуществом не имела права пользоваться и фактически являлась «даровой» работницей. В случае, когда ее муж – старший или единственный сын: «Тогда она сразу же становится почти полною хозяйкой, распорядительницею семейного имущества по хозяйству, и свекровь ей передает свою «большину», говоря, что она уже “поработала – будет, пора и на печку”. Однако стряпать на семью, вообще обязанность возиться около печки, быть “стряпухою” – свекровь оставляла за собой» (Шустров, 1998: 53).
На положение и статус женщины влияла и ее способность стать матерью. Определенное значение имел пол рожденного ребенка, состояния его здоровья, а также общее количество детей.
Женщины в различных регионах России рожали часто, однако немногие дети выживали. В частности, в период 1870–1880 гг. в Томской губернии (в деревнях), из каждой тысячи родившихся детей доживало до 1 года только 764 мальчика и 793 девочки, до 5 лет – лишь 669 мальчиков и 702 девочки1.
По свидетельству А. И. Ефимова, в 80 гг. XIX века в Томской губернии число умерших детей до 1 года мужского пола – 456, а женского – 420 на 1000 рожденных; умерших от 1 года до 5 лет – 162 и 163, соответственно2. Такая же картина наблюдалась и в других регионах. Например, по свидетельству Макаренко А., в Енисейской губернии, в с. Ужур за несколько лет в конце XIX в. в 21 семье «из 247 родившихся в живых осталось только 70, что дает на каждую семью в среднем 3,2 выживших и 8,4 умерших детей»3 (Макаренко, 1897).
Подобная ситуация наблюдалась и среди незаконнорождённых, но там цифры смертности еще более высоки. Однако число незаконнорожденных было незначительным, например, в Томской губернии в 1887 г. оно составляло чуть больше 3 % от общего количества рожденных4.
В ряде случаев матери, стремясь избежать огласки и позора, избавлялись от младенцев, в том числе и достаточно радикальными средствами. В государственном архиве Краснодарского края содержатся материалы о преступлении казачки Евдокии Савицкой, которая «прижила» дочь в отсутствие мужа, а потом в январе 1891 года закопала ее в куче навоза: «Это увидел свёкор, урядник Алексей Савицкий, который отрыл ребенка. Последний оказался живым, хотя и «был с тремя большими ранами», – нанесёнными ему железной лопатой во время закапывания. Ребёнок был окрещён и отправлен в Екатеринодарскую войсковую больницу» (Ратушняк, 2011: 65-66).
На Кубани также существовал особый промысел, который заключался в том, что женщины-«коммиссионерки» собирали «беспризорных» младенцев по всей губернии и везли за вознаграждение в крупные города (Екатеринодар, Новороссийск, Ейск) для размещения в Воспитательные дома и приюты. «Завернутые в грязные рубища, сложенные вплотную в корзины, едва прикрытые, без всякого ухода и забот о вскормлении, означенные младенцы помещаются под лавками и в таком положении отправляются, иногда из весьма отдаленных местностей, в столицы. В подобные корзины, тесные и грязные, где перебывало, быть может, сотня детей со всевозможными болезнями, втискивают, в буквальном смысле этого слова, целые партии отправляемых младенцев, которые, претерпевая все невзгоды пути, заражаясь друг от друга и от корзин…» (Ратушняк, 2011: 83).
Впрочем, и в сиротских домах смертность детей была очень высокой. В Иркутске в «База-новском доме» в 90-е годы XIX в. на первом году жизни умерло около 40 % воспитанников, а в других приходах цифра была еще выше. В Мариинском сиропитательном приюте Томской губернии за 1893–1895 гг. в из 102 младенцев умерло 835, в 1909 г. смертность среди подкидышей составила 68,2 %6, а общая детская смертность составила 57, 5 %.
В традиционной большой семье положение женщин было сложным, однако и в нуклеарной семье, которая стала получать все большее распространение, оно также было нелегким и во многом зависело от личных моральных качеств мужа.
По представлению крестьян, женщина являлась созданием бестолковым, не самостоятельным и даже глупым и без души: «Какая у бабы душа? у ней не душа, а паръ». – «На семь бабъ одна душа»7.
Физическое насилие в крестьянской среде было скорее правилом, чем исключением. Примеры такого обращения указаны в объяснительной записке Комиссии по составлению Проекта Гражданского уложения. «Одна женщина жаловалась, что мужъ «вырвалъ у нея косу»; другая – что мужъ «безъ всякой причины колотить ее и наконецъ, сталъ хлестать ее черезседельникомъ, въ которомъ вдето железное кольцо»; третья – что мужъ, «нанося побои, раз-деваетъ ее въ поле донага»; четвертая – что мужъ «бьеть ее сапогами и железнымъ гвоздемъ, которымъ обдираетъ ей лицо, и грызетъ ее зубами»; пятая – что «мужъ ударомъ въ глазъ свалилъ ее, схватилъ за волосы, билъ смертными побоями и давилъ въ землю лицомъ, чтобы не кричала»1.
Во взаимоотношения супругов крестьянская община не вмешивалась, так как «учить жену» было обязательным, в чрезвычайно редких случаях помощь приходила со стороны, однако она была разовой и не оказывала должного эффекта. Так, в работе И. Гессена «Раздельное жительство супругов...» описывается случай, когда пьяница-муж, преследуя жену, «догналъ ее на улице, ударомъ по голове повалилъ на землю и поволокъ за косу», вмешался сельский староста, оградивший женщину от преследования и возможной гибели. Однако через несколько дней ситуация повторилась. Изувер «заперъ избу, наделъ жене на шею петлю, затянулъ и наносилъ удары че-резседельникомъ, а потомъ и кулаками по груди. Истязаше продолжалось около часу. Изможденная жена впала въ безпамятство и такъ пролежала на полу целый день, очнулась въ луже крови и съ вывихнутою рукою. По окончании боя, мужъ стянулъ съ жены одежду и пропилъ»2.
Закон также не защищал женщину, так как ее подчиненное положение фиксировалось в юридических документах и законодательных актах. Законодательству Российской империи, по замечанию Н.И. Денисенко, был известен институт «мужней власти». Его сущность состояла в том, что голос мужа в браке имел решающее значение (Денисенко, 2022: 123), что отражалось в законодательстве ст. 107: «Жена обязана повиноваться мужу своему, какъ главѣ семейства, пребывать къ нему въ любви, почтеніи и въ неограниченном послушаніи, оказывать ему всякое угожденіе и привязанность, какъ хозяйка дома..». Ст. 108: «Жена обязана преимущественнымъ повиновеніемъ волъ своего супруга, хотя притомъ и не освобождается отъ обязанностей въ от-ношеніикъ ея родителямъ...»3.
Право супруга требовать, чтобы жена следовала за ним, также является одним из проявлений власти мужа, доказывающим второстепенное положение женщины в браке (Денисенко, 2022). Развод не одобрялся общественным мнением. Паспорт, вид на жительство, право на отлучку женщина получала по согласию мужа, что давало ему дополнительные возможности для давления на супругу и манипуляции ею. Муж также определял содержание для жены, поскольку считался «главой и кормильцем семьи», имеющим «по своей природе и общим условиям жизни, более, чем женщина, возможность приобретать материальные средства для содержания семьи»4.
Ситуация изменилась в 1914 году, когда был принят закон, согласно которому женщина могла поступить на государственную или общественную службу, обучаться в учебных заведениях, кроме того, она могла получить вид на жительство отдельно от супруга. Однако равных прав супругов закон не обеспечивал, семья по-прежнему строилась на строгой иерархии и подчинении мужчине, то есть основывалась на «властной опеке».
Подводя итоги, следует отметить, что в конце XIX – начале XX века трансформировалась историческая ситуация в целом. Изменилась роль женщины и ее статус. Этому способствовал целый ряд обстоятельств:
-
– во-первых, шире стало распространяться отходничество, мужчина уходил на заработки, и забота о семье ложилась на плечи женщин. Кроме того, многие из них вынуждены были наниматься на время страды к более состоятельным односельчанам. Только в зажиточных хозяйствах, где нехватка мужских рабочих рук могла восполниться за счет наемного труда, роль женского труда была вспомогательной (Бойко, 2010: 260);
-
– во-вторых, женщина начала распоряжаться полученными доходами, брать векселя;
-
– в-третьих, на смену большим патриархальным семьям, в которых женщина подчинялась не только мужу, но и всем старшим по возрасту, стали приходить малые нуклеарные семьи, в которых роль женщины возрастала;
-
– в-четвертых, увеличилось число девочек и женщин, получивших некоторое образование, это сказывалось на их мировоззрении, расширяло кругозор, обеспечивало им дополнительные возможности.
Таким образом, продолжился процесс эмансипации женщин, обретения ими большей самостоятельности и свободы.
Список литературы Влияние гендерного и возрастного ценза на положение крестьянских женщин в России XIX-XX вв.
- Бернштам Т.А. Народная культура Поморья. М., 2009. 432 с. EDN: RCIMUF
- Бернштам Т. А. Молодежь в обрядовой жизни русской общины ХIХ - начала ХХ в. Ленинград, 1988. 278 с. EDN: YXBUSL
- Бойко Э. Г. Тенденции развития семьи и внутрисемейных отношений в Ставропольской губернии в конце XIX - начале XX вв. // Вестник Ставропольского государственного педагогического института. 2010. Вып. 13. С. 257-262.
- Денисенко Н. В. Замужняя женщина в Российской Империи: регламентация личных прав и обязанностей (XIX - начало XX вв.) // Женщина в российском обществе. Специальный выпуск. 2022. С. 121-132. DOI: 10.21064/WinRS.2022.0.13 EDN: AJIWDG
- Ратушняк В.Н. На страже порядка. Полиция Кубани в борьбе с преступностью (конец XIX - началo XX века). Краснодар, 2010. 192 с.
- Шангина И.И. Русские девушки. СПб, 2008. 346 с. EDN: QPJMUR
- Шустрова И.Ю. Очерки по истории русской семьи Верхневолжского региона в XIX - начале XX века. Ярославль, 1998. 119 с. EDN: VIESXM